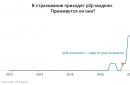Мистицизм в западном христианстве
Переходя к обзору мистицизма западного христианства, отметим ряд его стилистических отличий от восточного. Во-первых, католическая доктрина, подчеркивавшая исключительную роль церкви в спасении верующих, в значительной степени сужала сферу индивидуального религиозного опыта. Поэтому церковь без особой приязни относилась к мистикам, подозревая их во внецерковности и в попытках подменить спасение в лоне церкви спасением через личный опыт. Католическая церковь рассматривала мистическое делание не как вершину христианского праксиса, а как нечто избыточное для дела спасения (учение о сверхдостаточных заслугах святых явилось одним из оснований практики продажи индульгенций: церковь брала на себя миссию перераспределения этих «избыточных» для спасения заслуг). «Панцерковностью» католицизма объясняется и исключительно жесткое тестирование описаний мистического опыта на ортодоксальность, то есть на их соответствие догматической системе.
Во-вторых, Запад не разработал такой стройной и систематизированной методики психотехники, как восточный исихазм (категорически отвергавшийся католической церковью за «натурализм»). Первые попытки систематизации психотехнических приемов относятся только к XVI в. («Духовные упражнения» основателя ордена иезуитов св. Игнатия Лойолы). Если восточнохристианская теория мистики христоцентрична (единение с Богом осуществляется во Христе), то западная – теоцентрична по преимуществу (акцентируется божественное единство, а не различение ипостасей). Идея обожения (за исключением Ионна Скота – Иоанна Эриугены, знавшего греческий язык и хорошо знакомого с восточной патристикой) также не играла существенной роли в мистике, остававшейся в рамках ортодоксии, отрицавшей, особенно после Фомы Аквинского, возможность соединения тварного и нетварного. Если на Востоке помимо общежитийно-монастырского монашества существовала развитая традиция индивидуального отшельничества-пустынножительства, то на Западе господствовали крупные монастыри и монашеские ордена, отличавшиеся друг от друга уставами, что было совершенно чуждо Востоку.
В-третьих, в связи с быстрым и интенсивным развитием на Западе рациональной философии – схоластики (с XI в.) здесь возникла уникальная и неизвестная ни Византии, ни нехристианскому Востоку (за исключением, да и то относительным, исламского мира) оппозиция «рациональное (философское) – мистическое (иррациональное)», что, впрочем, не отменяло исторического взаимодействия этих двух форм духовной жизни (достаточно указать на влияние, оказанное Мейстером Экхартом на развитие немецкой философии). Но в целом разрыв между мистикой (особенно собственно психотехникой) и философией был безусловным.
В католической мистике мы также можем выделить два направления – созерцательно-гностическое, нацеленное на переживание присутствия божественного и непосредственное общение или даже единение с ним, и эмоциональное, в котором единение с Богом переживается как акт взаимной любви Бога и души. В первом направлении можно выделить мистиков, ориентирующихся на использование для мистического восхождения чувственных образов (визуализации Игнатия Лойолы, предполагающие вызываемые видения сцен жизни святых или фигуры Христа, которые постепенно заполняют собой все сознание практикующего), и мистиков, утверждающих необходимость без?бразного созерцания (св. Иоанн или Хуан Креста, обычно неправильно называемый в русскоязычной литературе св. Хуаном де ла Крус). Крупнейшим и ярчайшим представителем эмоционально-любовного мистицизма (с эротической окраской) является св. Тереза Авильская.
Несколько особняком стоит величественная и вызывающая восхищение своей духовной чистотой и возвышенной простотой фигура св. Франциска Ассизского, чья проповедь любви к Богу лишена крайностей эмоциональной экзальтации. С именем св. Франциска связана и своеобразная практика стигматизации, при которой вследствие напряженного сосредоточения верующего на Страстях Господних y него появляются кровоточащие, но безболезненные язвы, аналогичные крестным ранам Христа. Это явление весьма любопытно для изучения проблемы психосоматического взаимовлияния.
Из неортодоксальных (признанных еретиками) западных мистиков наиболее ярким и глубоким представителем созерцательно-гностического направления является, несомненно, немецкий мистик XIV в. Мейстер Экхарт.
Св. Иоанн Креста говорит прежде всего о принципиальной неописываемости мистического опыта, который он называет «мрачным созерцанием». Он замечает, что трудно описать даже чувственный предмет, видимый в первый раз, не говоря уже об опыте переживания сверхчувственного:
Душа чувствует себя тогда словно погруженною в беспредельное, бездонное уединение, которого не может нарушить ни одно живое существо, чувствует себя в безбрежной пустыне, которая тем восхитительнее кажется ей, чем она пустыннее. Там, в этой бездне мудрости, душа вырастает, черпая свои силы y первоисточника познания любви… И там она познает, что как бы ни был возвышен и утончен язык наш, он становится бледным, плоским, бессодержательным, как только мы начинаем пользоваться им для описания божественных вещей. (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. С. 317–318.)
Св. Тереза Авильская, несмотря на несколько иной тип своего мистицизма по сравнению со св. Иоанном Креста, вполне солидарна с ним по вопросу неописываемости и невыразимости мистического опыта. Единение с Богом приводит душу в состояние бесчувствия и бессознательности. И тем не менее мистический опыт обладает для пережившего его высшей и предельной достоверностью, являясь как бы критерием самого себя. Св. Тереза утверждает, что для пережившего опыт единения с Богом усомниться в нем невозможно. Любые сомнения свидетельствуют о неподлинности единения или отсутствии его. Более того, после переживания unio mystica, по словам св. Терезы, даже необразованный человек начинает понимать глубокие богословские истины, причем глубже, чем многие заурядные теологи; она приводит пример женщины, настолько глубоко пережившей божественное всеприсутствие, что поколебать ее убежденность не могли плохообразованные богословы, говорившие о присутствии Бога в людях только через «благодать». Наиболее же образованные теологи подтвердили истинность (соответствие католической ортодоксии) переживания и понимания этой женщины.
Это весьма интересный пример, подтверждаемый опытом Я. Бёме, простого сапожника, ставшего благодаря трансперсональному (мистическому) переживанию глубоким философом (к сожалению, понимание смысла учения Бёме весьма затруднено неадекватными формами его выражения и языка описания), влияние которого прослеживается вплоть до Шеллинга, Шопенгауэра и Бердяева.
Об этом же говорит и Игнатий Лойола, утверждавший, что в ходе молитвенных созерцаний он постиг больше божественных тайн, чем за все время изучения богословских книг и философских трактатов.
Приведем еще одно высказывание св. Терезы, развивающее тему мистического гносиса и одновременно затрагивающее переживание божественного всеединства, столь характерное для трансперсонального опыта:
«Однажды во время молитвы я получила возможность сразу постигнуть, каким образом все вещи могут быть созерцаемы в Боге и содержаться в Нем. Я видела их не в их обычной форме, однако с поразительной ясностью, и вид их остался живо запечатленным в моей душе. Это одна из наиболее выдающихся милостей, дарованных мне Богом… Вид этот был до такой степени утонченный и нежный, что описать его нет возможности». (Джеймс У. Указ. соч. С. 320.)
Но если св. Тереза, подобно св. Иоанну Креста, и говорит о гносисе, все же главное для нее – эмоциональный подъем, почти чувственная экзальтация и всеохватывающая, вплоть до эротизма, любовь к Богу – феномен, хорошо знакомый нам по индийскому бхакти.
Говоря о западной мистике, следует особо остановиться на Мейстере Экхарте и его традиции – Сузо, Рюисбрук Удивительный, Ангелус (Ангел) Силезский (Силезий, Силезиус), – о которой мы специально и скажем несколько слов.
Вся философия Мейстера Экхарта (1260–1327) является не столько плодом его интеллектуальных разработок, хотя он и был прекрасно образован схоластически, сколько рационализацией его трансперсонального опыта, на что Экхарт сам постоянно указывает; да и цель этой философии, облеченной в форму проповедей, – побудить людей к созерцанию, ведущему к переживанию божественного единства.
Экхарт проводит различие между сущностью Бога (Божеством) и его природой – Богом самосозерцающим и созерцаемым творением. Соотношение между Божеством и Богом y него примерно такое же, как между Брахманом и Ишварой в адвайта-веданте или между сущностью Бога и ее явлением себе в учении суфия Ибн ал-Араби:
А между тем, это она, в своем бытии твари создала Бога, – Его не было прежде, чем душа не стала творением. Раньше я говорил: Я причина тому, что Бог есть «Бог», Бог существует благодаря душе, но Божество – Он Сам через Себя. Пока не было творений, и Бог не был Богом; но несомненно был он Божеством, так как это имеет Он не через душу. Когда же найдет Бог уничтожившуюся душу, такую, которая стала (силой благодати) ничто, поскольку она самость и своеволие, тогда творит в ней Бог (без всякой благодати) Свое вечное дело, и тем, вознося ее, извлекает ее из ее тварного бытия. Но этим уничтожает Бог в душе Себя Самого и таким образом не остается больше ни «Бога», ни «Души». Будьте уверены – это самое существенное свойство Бога! (Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. С. 138–139.)
Мейстер Экхарт здесь утверждает, что Божество (Абсолют), которое он называет также Ничто, Мрак, Бездна, становится личным и триединым Богом только относительно чего-то иного, своего иного – творения, а точнее – души. Но душа должна в созерцании снять эту двойственность, превзойти самое себя, свою индивидуальную ограниченность (природа души – «самость и своеволие») и вернуться к божественной сущности (точнее, сверхсущности), в которой исчезнет двойственность, и Бог перестанет быть Богом, а душа – душой. Но вместе с тем это единство выше исходного – «мое устье прекраснее истока», – говорит Экхарт. Он утверждает, по существу, полное обожение души, хотя и не употребляет этого слова: «Отрешись всецело от твоего, излейся в тишину Его Сущности; как было раньше. Он – там, ты – здесь, сомкнется тогда в единое МЫ, где ты – отныне Он. Вечным разумом познаешь Его, неизреченное ничто, как предвечное “Есмь”». Хочется обратить внимание читателя на то, что Экхартово «ты – отныне Он» звучит уже почти как «великое речение» упанишад: «тат твам аси» («ты есть то»).
Вот как описывает Экхарт ступени созерцательного восхождения души к Божеству. Вначале человек должен «отвратиться от самого себя и всего сотворенного». После чего человек обретает единство и блаженство в трансцендентном основании своей души – той ее части, «которой никогда не коснулось ни время, ни пространство». Здесь появляется световой символизм: Экхарт сравнивает эту основу души с искрой, которая стремится только к Богу, отвернувшись от всякого творения. Ее влечет только к Божеству, и она не удовлетворится ни одной из ипостасей Троицы. Этому свету души мало даже рождения в нем божественной природы. Но этот свет не удовлетворяется и простой божественной сущностью:
«Он хочет знать, откуда эта сущность, он хочет в самую глубину, единую, в тихую пустыню, куда никогда не проникало ничего обособленного, ни Отец, ни Сын, ни Дух Святой; в глубине глубин, где всяк чужой, лишь там доволен этот свет, и там он больше y себя, чем в себе самом. Ибо глубина эта – одна безраздельная тишина, которая неподвижно покоится в себе самой. И этим неподвижным движимы все вещи». (Там же. С. 38–39.)
Для обоснования своего учения Мейстер Экхарт часто ссылается на Дионисия Ареопагита, однако апофатика немецкого мистика еще радикальнее его византийского источника.
Как уже говорилось выше, идеи Мейстера Экхарта имели весьма значительное влияние на развитие немецкой мысли и философской традиции Германии. Постепенно сформировался особый стиль богословствования, основанный на апофатике и учении о полном единении души и Бога, точнее о совпадении в некоторой исходной точке бытия души, мира и Бога (идея, легшая в основу философии тождества Шеллинга); этот стиль получил название «theologia teutonica» – «немецкая теология»; он радикально отличался от ортодоксальной перипатетико-томистской католической теологии как дотридентского, так и посттридентского периода.
Идею чистого единения с Богом отстаивали последователи и преемники Экхарта, жившие между XIV и XVII вв.: Иоанн Таулер, Рюисбрук Удивительный, Сузо, Ангел Силезий. Приведем некоторые цитаты из их творений:
1. Здесь умирает дух, и умерший все-таки продолжает жить в блеске божества… Он теряется в молчании мрака, ставшего ослепительно прекрасным, теряется в чистом единении. В этом бесформенном «где» скрывается высшее блаженство. (Сузо, цит по: Джеймс У. Указ. соч. С. 327.)
2. Я так же велик, как Бог,
Он так же мал, как и я.
Не могу я быть ниже Его,
Он не может быть выше меня.
(Ангел Силезий, настоящее имя – Иоганн Шефлер, XVI–XVII вв. – См. там же. С. 327.)
На этих цитатах мы завершим наш по необходимости в высшей степени неполный и отрывочный обзор западноевропейской католической мистики. Что касается мистики в протестантизме, то здесь практически отсутствует разработанная система какой-либо психотехники и трансперсональные переживания являются обычно спорадическими (У. Джеймс видит исключение в методиках сторонников «духовного лечения», появившихся на рубеже XIX–XX вв.).
Обычно мистические переживания в протестантизме связаны с идеей избранности, призвания и получения благодати. Опыт переживания получения благодати имелся даже у Оливера Кромвеля, который на смертном одре умолял пресвитеров ответить ему, может ли быть отнята у него благодать из-за его кровавых деяний (для успокоения лорда-протектора пресвитеры ответили, что благодать не отнимается). Кроме того, протестантизм знал различные формы квиетизма (большой материал по религиозному опыту протестантизма, особенно на англо-американском материале, содержится в книге У. Джеймса) и элементы экстатических переживаний – у квакеров, пятидесятников (верящих в возможность стяжания Св. Духа каждым человеком в своем личном опыте), католиков-пятидесятников и в некоторых других сектах. Однако о сектантском мистицизме мы поговорим на примере традиционных русских сект.
Понятия мистики и мистицизма обычно отождествляются, тогда как при структурно-аналитическом подходе их различия выявляются вполне определенно, что, безусловно, способствует уточнению и углублению понимания этих тесно связанных между собой феноменов.
Для определения этих понятий следует указать на структурно-функциональные, т.е. морфологические различия между соответствующими феноменами. Мистицизм - это представления, подчас системно выстраиваемые в форме рационалистических учений теологического и мировоззренческого характера о непосредственной связи вещей и явлений с сакральными началами. Мистика - опирающаяся на эти представления духовно-практическая деятельность адепта веры, назначением которой является осуществление непосредственной связи с сакральным началом. В концепциях трансцендентального мистицизма решающее значение отводится активности божественного (либо сатанинского) начала для результативности мистических действий. Рассмотрим данную проблему на конкретном материале.
В своем анализе синтоистского материала, связанного с мистикой и мистицизмом, А.А.Накорческий различает смысл действия и конкретную технику его исполнения23 , что позволяет соотнести смысл действия с мистицизмом, дающим ему парадигмальную трактовку, а мистику - с методической и технической реализацией этого действия, т.е. с морфологическим воплощением определяющих его смыслов.
Однако в этой системе присутствует еще один очень важный компонент - вероучительский дискурс, позволяющий в смысловом и функциональном планах идентифицировать деятельность мистика с определенной вероучительской традицией - буддийской, даосской или с собственно синтоистской, которая оказывается, по словам А.А.Накорчевского, шаманист- ской.
Дело в том, что в средневековой Японии «мистические техники заимствовались из буддизма, даосизма и прочих иноземных учений. Для Хонда и ему подобных было важно обнаружить исконно японские методы, воссозданию которых он и посвятил свою жизнь. Созданная им «наука о духах», может быть названа систематизированным шаманизмом»24 .
Итак, в мистическом действе мы выделяем три аспекта: смысл, задаваемый особой парадигмой (мистицизмом), морфологию (структурно-функциональные особенности этого действа), т.е. собственно мистику и вероучительский дискурс - осмысление и описание данного действа в рамках определенного религиозного учения. Таким образом, различие между мистикой и мистицизмом определяется их ролью как особых компонентов общей системы специфической сакральной деятельности.
Наше заключение по существу совпадает с категорическим высказыванием Владимира Соловьева по этому вопросу, писавшему: «Следует строго различать мистику от мистицизма: первая есть прямое, непосредственное отношение нашего духа к трансцендентному миру, второй же есть рефлексия нашего ума на то отношение и образует особое направление в философии. Мистика и мистицизм также относятся друг к другу, как, например, эмпирея и эмпиризм»25.
Мистицизм присутствует во всех религиях мира, философских учениях. Мышление древнего человека основывалось на обожествлении сил природы и сотрудничестве с ними. По мере накопления знаний, люди стали более рациональными, но неизменным осталась вера в божественное проведение.
Что значит мистицизм?
Значение слова мистицизм происходит от древнегреческого μυστικός – таинственный - особое миропонимание и восприятие, основанное на интуитивных догадках, озарениях и эмоциях. Интуиция играет важную роль в мистическом пути познания мира, его тайной сущности. То, что не подвластно логике и разуму – постижимо для иррационального мышления, базирующегося на чувствах. Мистицизм как учение – тесно связан с философией и религиями.
Мистицизм в философии
Мистицизм в философии это течение, возникшее с XIX в. в Европе. О. Шпенглер (немецкий историософ) выделил 2 причины, по которым люди заинтересовались внецерковными способами познания себя и Бога:
- кризис европейской культуры, исчерпавшей себя;
- стремительный рост межкультурного взаимодействия Запада и Востока, восточное мировоззрение пришлось по вкусу жаждущим «нового видения» европейцам.
Философский мистицизм – как совокупность традиционного христианства и восточных духовных традиций направлен на движение человека к божественному и единение с Абсолютом (Космическим сознанием, Брахманом, Шивой), изучает общезначимые для всех людей смыслы: бытия, правильной жизни, счастья. В России философский мистицизм развился в XX в. Самые известные направления:
- Теософия - Е.А. Блаватская.
- Живая Этика – А.К. Е и.А. Рерихи.
- Русский мистицизм (на основе дзен-буддизма) - Г.И. Гурджиев.
- Историософское учение (христианские и ведические идеи) – Д.Л. Андреев.
- Мистическая философия Соловьева (явление философу гностической Души мира - Софии).

Юнг и психология мистицизма
Карл Густав Юнг - швейцарский психиатр, один из самых противоречивых и интересных психоаналитиков своего времени, ученик З. Фрейда, основоположник – открыл миру понятие «коллективное бессознательное». Его считают скорее мистиком, чем психологом. Увлечение мистицизмом у К. Юнга началось с юных лет и сопровождало всю дальнейшую жизнь. Примечательно, что предки психиатра, по его словам - обладали сверхъестественными способностями: слышали и видели духов.
Юнг отличался от других психологов тем, что доверял своему бессознательному и сам являлся его исследователем. Психиатр пытался найти связи между мистическим и действительным, чтобы объяснить таинственные явления психики – все это он считал реально познаваемым. Приближение к непостижимому, Богу через мистическое переживание (слияние) – с точки зрения К. Юнга помогало человеку, страдающему неврозом, обрести целостность и способствовало исцелению психотравмы.
Мистицизм в Буддизме
Мистицизм в буддизме проявляется как особое мировоззрение. Все - начиная от вещей в этом мире, до людей и даже Богов – пребывает в Божественной Основе, и вне ее не может существовать. Человек, для слияния с Абсолютом, на первых порах, через духовные практики - стремиться пережить мистический опыт, озарение и осознать свое «Я» неразрывным с Божественным. Со слов буддистов – это является своего рода «спасательной шлюпкой», чтобы «переплыть на другой берег, преодолев течение и раствориться в пустоте». Процесс взаимодействия базируется на 3 условиях:
- преодоление чувственного восприятия: (очищение слуха, зрения, вкуса, обоняния, осязания);
- преодоление барьеров физического существования (Будда отрицал существование тела);
- достижение Божественного уровня.
Мистицизм в Христианстве
Православный мистицизм тесно связан с личностью Христа и огромное значение придает трактовке библейских текстов. Большая роль отводится религиозным общинам, без которых человеку трудно приблизиться к Богу. Соединение с Христом – всего цель человеческого бытия. Христиане-мистики для постижения любви Бога стремились к преображению («обожению»), для этого, каждый истинный христианин должен пройти несколько этапов:
- очищение («умерщвление» плоти) – посты, воздержания, молитвы в определенное время, милосердие к страждущим;
- просветление - постижение Священного Писания и истины скрытой в природных проявлениях;
- единение (контемпляция) – познание сердцем божественной любви: «Бог – это любовь, кто любит, тот пребывает в Боге, и Бог в нем».
Отношение церкви к христианскому мистицизму всегда было неоднозначным, особенно во времена Святой инквизиции. Человек, переживший божественный мистический опыт, мог прослыть еретиком, если его духовные переживания отличались от общепринятой церковной доктрины. По этой причине, люди затаивали свои откровения, и это останавливало христианский мистицизм в дальнейшем развитии.

Мистицизм как путь познания
Мистика и мистицизм – понятия, к которым обращается человек, столкнувшийся с необъяснимым, запредельным и кто решил начать познавать этот мир нерациональным путем, опираясь на свои чувства и интуицию. Путь мистика заключается в выборе духовной традиции, и в воспитании мистического мышления:
- глубокая вера в традицию, систему, высшее существо;
- взаимосвязь внутреннего с внешним, с явлениями, другими людьми;
- доверие себе: глубокий личный опыт важнее написанного в книгах;
- присутствие «здесь и сейчас»;
- подвергать все сомнению;
- духовные практики и медитации, дыхательные техники – инструменты на мистическом пути познания.
Эзотерика и эзотерическое знание. Оккультизм и мистицизм.
Ключевые слова: эзотерика, мистицизм, религиозная философия.
Эзотерика. Эзотерика и наука.
Эзотерика – внутреннее, скрытое от общества и потому тайное духовное учение. В контексте объективного исследования мы не можем понимать эзотерические учения как научные, хотя некоторые эзотерические системы и считались научными до XVI в. – это касается, например, алхимии. Эзотерика может пониматься самими эзотериками как наука в том смысле, что это «наука», исследующая законы мироздания; апелляция к «научности» эзотерического знания использовалась также для утверждения его легитимности и объективности. В XVI в. нормативная наука стала экспериментальной, основанной по получении эмпирических данных путем эксперимента; эзотерике чужд экспериментальный метод, предполагающий равный результат при равных условиях и потому – цепочку его повторений, удостоверяющих истинность гипотезы. В эзотерике при равных посылках в процессе творческого осмысления могут быть сделаны кардинально противоположные выводы; в этом плане она напоминает скорее искусство, чем науку в ее сегодняшнем понимании.
Следует заметить, что многие эзотерические системы трактуют собственное учение или отдельные его компоненты как «науку» (астрология). Эзотерическое знание также может претендовать на возможность обоснования своего содержания научными данными. Образ эзотерики как «науки», формировавшийся со времен Пифагора, был воспринят, например, масонством, Телемой (трактующей магию как науку) и т.д.
Эзотерическое знание.
Эзотерическое знание – стержень эзотерики, конституирующий сущность явления. Мы намерены определить его как особую, сложно организованную когнитивную базу или информационную систему, элементы которой позволяют его носителю адекватно и логично, с его точки зрения, интерпретировать действительность.
Благодаря наличию эзотерического знания действительность становится для эзотерика эзотеричной – наполненной скрытым внутренним содержанием, недоступным профану. Специфика этого знания определяется дихотомией «сокровенное – откровенное»; в то же время то, что открыто, является тем, что сокрыто. Этот критерий проводит черту между эзотерическим и экзотерическим знанием. Эзотерическое знание поступает к человеку в форме иррационального откровения из трансцендентного источника. Достигнув адресата, оно становится окруженным непроницаемой для профанов тайной. Приобщение к этому знанию затрудняется различными фильтрами, например, посвящением – отказом от суждений на основе экзотерического знания. Источник знания находится в самой сердцевине знания, как объект познания. Таким образом, источник знания и целенаправленность знания в эзотерике совпадают. Это знание обращено на само себя и является призмой, через которую рассматривается окружающий мир.
Неотъемлемым свойством эзотерического знания является ее сотериологичность, при этом знание как диктует необходимость спасения, так и предоставляет его. Обретший знание адепт освобождается от неправильных интерпретаций действительности, он как бы «пробуждается» от «сна». Другим свойством этого знания является представление о единстве и тождестве разных сторон действительности; адепт мыслит по аналогии, интуитивно, с помощью интуэм, которые сводят воедино планеты и металлы, свойства и имена, вкусы и качества божества и т.д. Эзотерическое знание всегда упорядочено; оно имеет дело с строгими системами. Граница между эзотерическим и экзотерическим проводится эзотериком или эзотерической системой; универсализм в этом вопросе отсутствует, однако экзотерическое знание неизменно оказывает на эзотерику сильное влияние. Таким образом, эзотерическое знание сочетает приверженность мифологическому мышлению с открытостью ко всему новому в экзотерическом окружении.
Методом эзотерики мы полагаем мышление с помощью «интуэм», интуитивных аналогий, основанное на представлении о единстве и тождестве различных сторон действительности; таким образом, универсум для эзотерика представляется единым. Мышление «интуэмами» генерализирует качества объекта, абстрагируясь от их частных проявлений, что позволяет эзотерику сопоставлять знаки Зодиака с планетами, планеты с металлами, буквы иврита с арканами Таро и т.д. В процессе сопоставления эзотерик может использовать образы различных систем, что имеет результатом синкретизм многих эзотерических систем – например, Телемы или Теософии. Такое мышление не является хаотическим; напротив, эзотерические системы упорядочены и гармонизированы; эту гармонию можно назвать «систематической симметричностью с эстетической составляющей». В универсуме, который моделируют эзотерики, наличествует строгая упорядоченность; хаос же мыслится как причастный экзотерической действительности.
Некоторые исследователи, к примеру, Артур Верслуис, делят эзотерическое знание на космологическое и трансцендентное в зависимости от того, чему посвящено это знание: космосу (алхимия, астрология) или природе божества (немецкая мистика). В таком случае два типа знания не противоречат друг другу, а дополняют друг друга.
Эзотерические трактовки действительности.
Существует ряд эзотерических трактовок реальности, которые чаще всего встречаются в эзотерических системах в различных сочетаниях. Ниже мы приведем трактовки, которые выделяет С.В.Пахомов в статье «К вопросу о демаркации понятия «эзотеризм»:
«1) Практически любая эзотерическая традиция ставит в центр своего рассмотрения мироздание (универсум);
2) Мироздание – не механическая сумма каких-то автономных частей, не хаос, но упорядоченная, хорошо организованная, целостная структура, состоящая из нескольких взаимосвязанных частей и (или) уровней;
3) Целостность и организованность универсума предполагает стоящую в его основе разумную творящую Силу;
4) Эта Сила либо сама создает (или проявляет) мир, а также живые существа, либо такая креативная прерогатива переходит к другим высшим разумным сущностям, либо творение (эманация) вообще выглядит как «отпадение» от высшего онтологического
центра, «космическая ошибка»;
5) Сотворенный универсум существует по незыблемым законам;
6) «Душа мира» – главный скрепляющий центр проявленного
универсума;
5) Человек, важнейшее живое существо, органично встроен в мироздание и понимается как микрокосм по отношению к макрокосму. С другой стороны, макрокосм воспринимается как живое антропоморфное целое;
6) Между уровнями мира существуют тесная причинная взаимосвязь. Более высокие уровни имеют в более низких уровнях свое «представительство»
7) Взаимодействие между уровнями происходит посредством сил симпатии и антипатии;
8) Главная цель человека – спасение (или освобождение), которое достигается прежде всего через обретение особого духовного знания – знания себя, мира, Бога;
9) Начальный этап духовного пути – посвящение, понимаемое как встраивание неофита в соответствующую традицию и следование определенным практикам;
10) Знающие подлинную реальность отличаются от обычных людей («профанов») и часто образуют иерархическую группу единомышленников, отличающихся друг от друга степенью приближения к Истине и концентрирующихся вокруг харизматического духовного лидера».
Необходимо подвергнуть рассмотрению два термина, которые часто употребляются как синонимы эзотерики – оккультизм и мистицизм. Мы полагаем, что, хотя эти понятия и входят в понятие «эзотерика», следует уточнить их особенности.
Оккультизм.
Несмотря на то, что слово оккультизм (лат. «тайный») означает то же, что и эзотерика, целесообразно проводить различение этих понятий, впервые произведенному в XII в. Мы полагаем оба явления конституированными как практической, так и теоретической сферой, однако в оккультизме преобладает практическая, «магическая» составляющая, а в эзотерике – теоретическая. Оккультизм, по замечанию Э.Р. Доддса, есть «попытка достичь Царства Божьего материальными средствами»; оккультизм больше зависит от вещественного инструментария.
Мистицизм.
Мистический опыт – внутреннее измерение духовного опыта, четко отличающийся от ритуалов или институциональных религиозных практик, даже если мистик (сторонник мистицизма) их одобряет и на них опирается. Соответственно, мистицизм – учение, основанное на мистическом опыте. Мистический опыт по природе своей является опытом внутренним, однако мистики могут и не претендовать на обладание «скрытым» эзотерическим знанием, а потому передавать его профанам. В качестве примера мы можем привести немецких мистиков Майстера Экхарта и Иоханна Таулера, которые излагали свое учение в проповедях. Еще одним отличием мистицизма является большая субъективность знания, в то время как эзотеризм претендует на объективность, которая предоставляет небольшое пространство для субъективной интерпретации или личного духовного опыта в рамках определенной школы или учения.
Там же.
Там же.