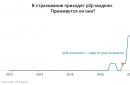Роль и функция эпиграфов в произведениях А.С. Пушкина
Эпиграф относится к числу факультативных элементов композиции литературного произведения. Именно благодаря своей необязательности эпиграф в случае его применения всегда несет важную смысловую нагрузку. Учитывая, что эпиграф – вид авторского выражения, можно выделить два варианта его употребления в зависимости от того, присутствует ли в произведении непосредственное высказывание автора. В одном случае эпиграф будет составной частью структуры художественной речи, дающейся от имени автора. В другом – единственным элементом, не считая заглавия, явно выражающим авторский взгляд. «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» соответственно представляют два указанных случая. Пушкин часто использовал эпиграфы. Кроме рассматриваемых произведений, мы встречаемся с ними в «Повестях Белкина», «Пиковой даме», «Полтаве», «Каменном госте», «Арапе Петра Великого», «Дубровском», «Египетских ночах», «Бахчисарайском фонтане». Приведенный список произведений подчеркивает, что эпиграфы в пушкинских произведениях определенным образом «работают» в направлении формирования смысла. Каков механизм этой работы? В каких связях с текстом оказывается каждый эпиграф? Чему он служит? Ответы на эти вопросы прояснят роль пушкинских эпиграфов. Без этого нельзя рассчитывать на серьезное понимание его романов и повестей. В «Капитанской дочке», как и в «Евгении Онегине» или в «Повестях Белкина», мы сталкиваемся с целой системой эпиграфов. Они предпосланы каждой главе и всему сочинению. Некоторые главы имеют несколько эпиграфов. Такая система в литературе не редкость. Подобное встречается, например, в романе Стендаля «Красное и черное», написанном приблизительно в одно время с пушкинскими романами.
Эпиграфы в романе «Евгений Онегин»
В двадцатые годы XIX века у русской публики большой популярностью пользовались романтические романы Вальтера Скотта и его многочисленных подражателей. Особенно любим был в России Байрон, чья возвышенная разочарованность эффектно контрастировала с недвижной отечественной повседневностью. Романтические произведения привлекали своей необычностью: характеры героев, страстные чувства, экзотические картины природы волновали воображение. И казалось, что на материале русской обыденности невозможно создать произведение, способное заинтересовать читателя.
Появление первых глав «Евгения Онегина» вызвало широкий культурный резонанс. Пушкин не только изобразил широкую панораму российской действительности, не только зафиксировал реалии быта или общественной жизни, но сумел вскрыть причины явлений, иронически связать их с особенностями национального характера и мировоззрения.
Пространство и время, социальное и индивидуальное сознание раскрываются художником в живых фактах действительности, освещаемых лирическим, а подчас ироническим взглядом. Пушкину не свойственно морализаторство. Воспроизведение социальной жизни свободно от дидактики, а интереснейшим предметом исследования неожиданно предстают светские обычаи, театр, балы, обитатели усадеб, детали быта – повествовательный материал, не претендующий на поэтическое обобщение. Система противопоставлений (петербургский свет – поместное дворянство; патриархальная Москва – русский денди; Онегин – Ленский; Татьяна – Ольга и т. д.) упорядочивает многообразие жизненной действительности. Скрытая и явная ирония сквозит в описании помещичьего существования. Любование «милой стариной», деревней, явившей национальному миру женский идеал, неотделимо от насмешливых характеристик соседей Лариных. Мир обыденных забот развивается картинами фантастических грез, вычитанных из книг, и чудесами святочных гаданий.
Масштабность и в то же время камерность сюжета, единство эпических и лирических характеристик позволили автору дать самобытную интерпретацию жизни, ее наиболее драматических конфликтов, которые максимально воплотились в образе Евгения Онегина. Современная Пушкину критика не раз задавалась вопросом о литературных и социальных корнях образа главного героя. Часто звучало имя байроновского Чайлд Гарольда, но не менее распространено было указание и на отечественные истоки.
Байронизм Онегина, разочарованность персонажа подтверждаются его литературными пристрастиями, складом характера, взглядами: «Что ж он? Ужели подражанье, ничтожный призрак, иль еще москвич в Гарольдовом плаще...» – рассуждает Татьяна о «герое своего романа». Герцен писал, что «в Пушкине видели продолжателя Байрона», но «к концу своего жизненного пути Пушкин и Байрон совершенно отдаляются друг от друга», что выражается в специфике созданных ими характеров: «Онегин – русский, он возможен лишь в России: там он необходим, и там его встречаешь на каждом шагу... Образ Онегина настолько национален, что встречается во всех романах и поэмах, которые получают какое-либо признание в России, и не потому, что хотели копировать его, а потому, что его постоянно находишь возле себя или в себе самом».
Воспроизведение с энциклопедической полнотой проблем и характеров, актуальных для российской действительности 20-х годов XIX века, достигается не только подробнейшим изображением жизненных ситуаций, склонностей, симпатий, моральных ориентиров, духовного мира современников, но и особыми эстетическими средствами и композиционными решениями, к наиболее значимым из которых относятся эпиграфы. Цитаты из знакомых читателю и авторитетных художественных источников открывают для автора возможность создать многоплановый образ, рассчитанный на органичное восприятие контекстных значений, выполняя роль предварительных разъяснений, своеобразной экспозиции пушкинского повествования. Поэт перепоручает цитате из другого текста роль коммуникативного посредника.
Неслучайным кажется выбор общего эпиграфа к роману. Эпиграфы «Евгения Онегина» отличаются приближенностью к личности его автора. Их литературные источники – либо произведения современных русских писателей, связанных с Пушкиным личными отношениями, либо произведения старых и новых европейских авторов, входивших в круг его чтения.
Остановимся на связи общего эпиграфа с заглавием романа. Эпиграф к роману: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, – как следствие чувства превосходства: быть может, мнимого. Из частного письма». Содержанием текста эпиграфа к «Евгению Онегину» является прямая психологическая характеристика, данная в третьем лице. Ее естественно отнести к главному герою, именем которого назван роман. Таким образом, эпиграф усиливает сосредоточение нашего внимания на Онегине (на это ориентирует заглавие романа), подготавливает к его восприятию.
Когда Пушкин во второй строфе
обращается к своим читателям:
Друзья
Людмилы и Руслана,
С героем моего романа
Без
промедленья, сей же час
Позвольте
познакомить вас, –
мы уже имеем некоторое представление о нем.
Перейдем к непосредственному анализу роли эпиграфов перед отдельными главами пушкинских романов.
Первая глава «Евгения Онегина» начинается строкой стихотворения П. А. Вяземского «Первый снег». Эта строка лаконично выражает характер «светской жизни петербургского молодого человека», описанию которой посвящена глава, косвенно характеризует героя и обобщает мировоззрения и настроения, присущие «молодой горячности»: «И жить торопится, и чувствовать спешит». Давайте прочитаем стихотворение П.А. Вяземского. Погоня героя за жизнью и скоротечность искренних чувств аллегорически заключены и в названии стихотворения «Первый снег», и в его содержании: «Единый беглый день, как сон обманчивый, как привиденья тень, /Мелькнув, уносишь ты обман бесчеловечный!». Финал стихотворения – «И чувства истощив, на сердце одиноком нам оставляет след угаснувшей мечты...» – соотносится с духовным состоянием Онегина, у которого «уж нет очарований». В более глубоком понимании эпиграф задает не только тему, но и характер ее развития . Онегин не только «чувствовать спешит». За этим следует, что «рано чувства в нем остыли». Посредством эпиграфа эта информация для подготовленного читателя оказывается ожидаемой. Важным становится не сам сюжет, а то, что за ним стоит.
Эпиграф может высвечивать часть текста, усиливать отдельные его элементы. Эпиграф второй главы «Евгения Онегина» построен на каламбурном сопоставлении восклицания, взятого из шестой сатиры Горация, со сходно звучащим русским словом. Это создает игру слов: «О rus!.. О Русь!». Этот эпиграф выделяет деревенскую часть романа: Русь по преимуществу – деревня, важнейшая часть жизни проходит именно там. И здесь же явственно звучит авторская ирония по поводу соединения мотивов европейской культуры и отечественной патриархальности. Неизменный мир помещичьих усадеб с ощущением вечного покоя и недвижности резко контрастирует с жизненной активностью героя, уподобленного в первой главе «первому снегу».
В известном плане-оглавлении к роману
третья глава
имеет название «Барышня».
Эпиграф к этой главе достаточно точно
представляет ее характер. Не случаен
здесь французский стих, взятый из поэмы
«Нарцисс». Вспомним, что Татьяна
...по-русски
плохо знала,
И выражалася с трудом
На языке
своем родном.
Цитата из Мальфилатра «Она была девушка, она была влюблена» становится темой третьей главы, раскрывающей внутренний мир героини. Пушкин предлагает формулу эмоционального состояния девушки , которая определит основу любовных перипетий не только данного романа, но и последующей литературы. Автор изображает различные проявления души Татьяны, исследует обстоятельства формирования образа, впоследствии ставшего классическим. Героиня Пушкина открывает галерею женских характеров русской литературы, объединяющих искренность чувств с особой чистотой помыслов, идеальные представления со стремлением воплотить себя в реальном мире; в этом характере нет ни чрезмерной страстности, ни душевной распущенности.
«Нравственность в природе вещей», – читаем мы перед четвертой главой . Слова Неккера у Пушкина лишь задают проблематику главы. Применительно к ситуации Онегина и Татьяны утверждение эпиграфа может восприниматься иронически. Ирония – важное художественное средство в руках Пушкина. «Нравственность – в природе вещей». Возможны различные интерпретации этого известного в начале XIX века изречения. С одной стороны – это предупреждение решительного поступка Татьяны, однако героиня в своём признании в любви повторяет рисунок поведения, намеченный романтическими произведениями. С другой стороны, эта этическая рекомендация как бы концентрирует в себе отповедь Онегина, который использует свидание для поучения и настолько увлекается назидательной риторикой, что любовным ожиданиям Татьяны сбыться не суждено. Не суждено сбыться и ожиданиям читателя: чувственность, романтические клятвы, счастливые слезы, молчаливое согласие, выраженное глазами, и т. д. Всё это сознательно отвергается автором ввиду надуманной сентиментальности и литературности конфликта. Лекция на морально-этические темы видится более убедительной для человека, имеющего представление об основах «природы вещей». Проецируясь на пушкинского героя, эпиграф к четвертой главе приобретает иронический смысл: нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине «сверкающий взорами» герой. Онегин поступает с Татьяной морально и благородно: он учит ее «властвовать собой». Чувства нужно рационально контролировать. Однако мы знаем, что сам Онегин научился этому, бурно упражняясь в «науке страсти нежной». Очевидно, нравственность проистекает не из разумности, а из естественной физической ограниченности человека: «рано чувства в нем остыли» – Онегин стал нравственным поневоле, по причине преждевременной старости, утратил способность получать наслаждение и вместо уроков любви дает уроки морали. Это еще одно возможное значение эпиграфа.
Роль эпиграфа к пятой главе объясняется Ю. М. Лотманом в плане задания параллелизма образов Светланы Жуковского и Татьяны с целью выявления отличий их трактовки: «одного, ориентированного на романтическую фантастику, игру, другого – на бытовую и психологическую реальность». В поэтической структуре «Евгения Онегина» сон Татьяны задает особый метафорический смысл для оценки внутреннего мира героини и самого повествования. Автор раздвигает пространство рассказа до мифопоэтической аллегории. Цитирование Жуковского в начале пятой главы – «О, не знай сих страшных снов ты, моя Светлана!» – отчетливо вскрывает ассоциацию с творчеством предшественника, подготавливает драматическую фабулу. Поэтическая трактовка «чудного сна» – символический пейзаж, фольклорные эмблемы, открытая сентиментальность – предваряет трагическую неизбежность разрушения привычного для героини мира. Эпиграф-предостережение, осуществляя символическое иносказание, рисует и богатое духовное содержание образа. В композиции романа, основанной на приемах контраста и параллелизма с зеркальными проекциями (письмо Татьяны – письмо Онегина; объяснение Татьяны – объяснение Онегина и т. д.), отсутствует противопоставление сну героини. «Бодрствующий» Онегин задан в плоскости реального социального существования, его натура освобождена от ассоциативно-поэтического контекста. И напротив, природа души Татьяны бесконечно многообразна и поэтична.
Эпиграф шестой главы подготавливает смерть Ленского. Эпиграф-эпитафия, открывающий шестую главу романа – «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно», – привносит пафос «На жизнь мадонны Лауры» Петрарки в сюжет романтика Владимира Ленского, чуждого российской жизни, создавшего иной мир в душе, отличие которого от окружающих и подготавливает трагедию персонажа. Мотивы поэзии Петрарки необходимы автору, чтобы приобщить персонаж к разработанной западной культурой философской традиции приятия смерти , прерывающей краткосрочность жизненной миссии «певца любви». Но Ю. М. Лотман показал и еще один смысл этого эпиграфа. Пушкин не полностью взял цитату у Петрарки, а выпустил стих, говорящий, что причина отсутствия страха смерти – во врожденной воинственности племени. При таком пропуске эпиграф применим и к Онегину, равно рисковавшему на дуэли. Опустошенному Онегину, может быть, тоже «не больно умирать».
Тройной эпиграф к седьмой главе создает разнообразные по характеру интонации (панегирическую, ироническую, сатирическую) повествования. Дмитриев, Баратынский, Грибоедов, объединенные высказываниями о Москве, представляют разнообразие оценок национального символа. Поэтические характеристики древней столицы найдут развитие в сюжете романа, наметят специфику решения конфликтов, определят особую оттенки поведения героев.
Эпиграф из Байрона
появился на
стадии беловой рукописи, когда Пушкин
решил, что восьмая глава будет последней.
Тема эпиграфа – прощанье.
Я вас
прошу меня оставить, –
говорит Татьяна
Онегину в последней сцене романа.
Прости
ж и ты, мой спутник странный,
И ты,
мой верный идеал,
И ты, живой и
постоянный,
Хоть малый труд, –
говорит поэт. Прощанию с читателем
Пушкин посвящает всю сорок девятую
строфу.
Двустишие из цикла «Стихов о
разводе» Байрона, избранное в качестве
эпиграфа восьмой главы, пронизано
элегическими настроениями, метафорически
передающими авторскую печаль прощания
с романом и героями, расставания Онегина
с Татьяной.
Эстетика эпиграфов наряду с другими художественными решениями Пушкина формирует дискуссионно-диалогический потенциал произведения, окрашивает художественные явления в особые смысловые интонации, подготавливает новый масштаб обобщения классических образов. выпускные экзамены. При формировании учебного...
Методические материалы для учащихся при подготовке к Единому государственному экзамену Екатеринбург (2)
Реферат... для учащихся при подготовке к Единому государственному экзамену Екатеринбург 2008 Предлагаемое пособие адресовано учащимся старших классов ... ЕГЭ в значительной мере отличается от выпускного экзамена в традиционной форме. Прежде всего...
Программа по учебному предмету уп. 03. «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» для учащихся 1 8 (9) классов
ПрограммаОформляются наглядными пособиями , имеют звукоизоляцию. II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН Для учащихся 4 класса (освоивших... быть использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном классах . Третий вариант – для выпускного класса . Итоговая...
Программа по охране здоровья и физическому развитию для учащихся 1-4 классов рассчитана на формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни, овладение средствами сохранения и укрепления своего здоровья, выработку разумного отношения к нему.
ПрограммаПо курсу «Экономический практикум» в выпускных классах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII ... – методическое пособие . – СПб.: «Детство – Пресс», 2000. Программа по творческому развитию для учащихся 6 класса специальных...
Ранчин А. М.
Об эпиграфах в пушкинском романе в стихах написано очень много. И всё же роль эпиграфов, их соотношение в текстом глав по-прежнему ясны не полностью. Попробуем, не претендуя на безусловную новизну истолкований, не торопясь перечитать роман. Ориентирами в этом перечитывании – путешествии по небольшому и бескрайнему пространству текста – будут три известных комментария: «“Евгений Онегин”. Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы» Н. Л. Бродского (1-е изд.: 1932), «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий» Ю. М. Лотмана (1-е изд.: 1980) и «Комментарий к роману А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» В. В. Набокова (1-е изд., на английском языке: 1964).
Начнем, естественно, с начала – с французского эпиграфа ко всему тексту романа (В. В. Набоков назвал его «главным эпиграфом»). В русском переводе эти строки, якобы взятые из некоего частного письма, звучат так: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того особой гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, - следствие чувства превосходства, быть может мнимого».
Не касаясь покамест содержания, задумаемся о форме этого эпиграфа, зададим себе два вопроса. Во-первых, почему эти строки представлены автором произведения как фрагмент из частного письма? Во-вторых, почему они написаны по-французски?
Указание на частное письмо как на источник эпиграфа призвано, прежде всего, придать Онегину черты реальной личности: Евгений якобы существует на самом деле, и кто-то из его знакомых даёт ему такую аттестацию в письме к ещё одному общему знакомому. На реальность Онегина Пушкин будет указывать и позже: «Онегин, добрый мой приятель» (гл. I, строфа II). Строки из частного письма придают повествованию об Онегине оттенок некоей интимности, почти светской болтовни, пересудов и «сплетен».
Подлинный источник этого эпиграфа – литературный. Как указал Ю. Семёнов, а затем, независимо от него, В. В. Набоков, это французский перевод сочинения английского социального мыслителя Э. Бёрка «Мысли и подробности о скудости» (Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Пер. с англ. СПб., 1998. С. 19, 86-88). Эпиграф, как, впрочем, и другие эпиграфы в романе, оказывается «с двойным дном»: его подлинный источник надёжно спрятан от пытливых глаз читателя. В.И. Арнольдом указывался другой источник – роман Ш. де Лакло «Опасные связи».
Французский язык письма свидетельствует, что лицо, о котором сообщается, несомненно, принадлежит к высшему свету, в котором в России господствовал французский, а не русский язык. И в самом деле, Онегин, хотя в восьмой главе и будет противопоставлен свету, персонифицированному в образе «N. N. прекрасного человека» (строфа Х), - молодой человек из столичного света, и принадлежность к светскому обществу – одна из его наиболее важных его характеристик. Онегин – русский европеец, «москвич в Гарольдовом плаще» (глава VII, строфа XXIV), усердный читатель современных французских романов. Французский язык письма ассоциируется с европеизмом Евгения. Татьяна, просмотрев книги из его библиотеки, даже задаётся вопросом: «Уж не пародия ли он?» (глава VII, строфа XXIV). И если от подобной мысли, высказанной собирательным читателем из высшего света в восьмой главе, Автор решительно защищает героя, то с Татьяной он спорить не осмеливается: её предположение остаётся и не подтверждённым, и не опровергнутым. Заметим, что в отношении Татьяны, вдохновенно подражающей героиням сентиментальных романов, суждение о наигранности, неискренности не высказывается даже в форме вопроса. Она «выше» таких подозрений.
Теперь о содержании «главного эпиграфа». Главное в нём - противоречивость характеристики лица, о котором говорится в «частном письме». С тщеславием соединена некая особенная гордость, вроде бы проявляющаяся в безразличии к мнению людей (потому и признаётся «он» с равнодушием как в добрых, так и в злых поступках). Но не мнимое ли это безразличие, не стоит ли за ним сильное желание снискать, пусть неблагосклонное, внимание толпы, явить свою оригинальность. А выше ли «он» окружающих? И да («чувство превосходства»), и нет («быть может мнимого»). Так начиная с «главного эпиграфа», задано сложное отношение Автора к герою, указано, что читатель не должен ожидать однозначной оценки Евгения его создателем и «приятелем». Слова «И да и нет» - этот ответ на вопрос об Онегине «Знаком он вам?» (глава 8, строфа VIII) принадлежит, кажется, не только голосу света, но и самому творцу Евгения.
Первая глава открывается строкой из знаменитой элегии пушкинского друга князя П. А. Вяземского «Первый снег»: «И жить торопится и чувствовать спешит». В стихотворении Вяземского эта строка выражает упоение, наслаждение жизнью и её главным даром – любовью. Герой и его возлюбленная несутся в санях по первому снегу; природа объята оцепенением смерти под белой пеленой; он и она пылают страстью:
Кто может выразить счастливцев упоенье?
Как вьюга лёгкая, их окрилённый бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг.
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит.
Вяземский пишет о радостном упоении страстью, Пушкин в первой главе своего романа – о горьких плодах этого упоения. О пресыщении. О преждевременной старости души. А в начале первой главы Онегин летит «в пыли на почтовых», поспешая в деревню к больному и горячо нелюбимому ляде, а не катается в санях с прелестницей. В деревне Евгения встречает не оцепеневшая зимняя природа, а цветущие поля, но ему, живому мертвецу, в том нет отрады. Мотив из «Первого снега» «перевёрнут», обращён в свою противоположность. Как заметил Ю. М. Лотман, гедонизм «Первого снега» был открыто оспорен автором «Евгения Онегина» в IX строфе первой главы, изъятой из окончательного текста романа (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий // Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах. М., 1991. С. 326).
Эпиграф из римского поэта Горация «O rus!…» («О деревня», лат.) с псведопереводом «О Русь!», построенным на созвучии латинских и русских слов, - на первый взгляд, не более чем пример каламбура, языковой игры. По мысли Ю. М. Лотмана, «двойной эпиграф создаёт каламбурное противоречие между традицией условно-литературного образа деревни и представлением о реальной русской деревне» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 388). Вероятно, одна из функций этой «двойчатки» именно такова. Но она не единственная и, может быть, не самая главная. Диктуемое каламбурным созвучием отождествление «деревни» и «России» в конечном итоге вполне серьёзно: именно русская деревня предстаёт в пушкинском романе квинтэссенцией русской национальной жизни. А кроме того, этот эпиграф – своего рода модель поэтического механизма всего пушкинского произведения, строящегося на переключении из серьёзного плана в шутливый и наоборот, демонстрирующего вездесущесть и ограниченность переводимых смыслов. (Вспомним хотя бы иронический перевод исполненных бесцветных метафор преддуэльных стихов Ленского: «Всё это значило, друзья: // С приятелем стреляюсь я» [глава V, строфы XV, XVI, XVII]).
Французский эпиграф из поэмы «Нарцисс, или Остров Венеры» Ш. Л. К. Мальфилатра, переводимый на русский как: «Она была девушка, она была влюблена», открывает главу третью. У Мальфилатра говорится о безответной любви нимфы Эхо к Нарциссу. Смысл эпиграфа достаточно прозрачен. Вот как его описывает В. В. Набоков, приводящий более пространную, чем Пушкин, цитату, из поэмы: «“Она [нимфа Эхо] была девушка [и следовательно – любопытна, как это свойственно им всем]; [более того], она была влюблена… Я её прощаю, [как это должно быть прощено моей Татьяне]; любовь её сделала виновной <…>. О если бы судьба её извинила также!”
Согласно греческой мифологии, нимфа Эхо, зачахнувшая от любви к Нарциссу (который, в свою очередь, изнемог от безответной страсти к собственному отражению), превратилась в лесной голос, подобно Татьяне в гл. 7, XXVIII, когда образ Онегина проступает перед ней на полях читанной им книги (гл. 7, XXII-XXIV)» (Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 282).
Однако соотношение эпиграфа и текста третьей главы всё же более сложно. Пробуждение в Татьяне любви к Онегину истолковывается в тексте романа и как следствие природного закона («Пришла пора, она влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнём оживлено» [глава III, строфа VII]), и как воплощение фантазий, игры воображения, навеянной прочитанными чувствительными романами («Счастливой силою мечтанья / Одушевлённые созданья, / Любовник Юлии Вольмар, / Малек-Адель и де Линар, / И Вертер, мученик мятежный, / И бесподобный Грандисон, <…> Все для мечтательницы нежной / В единый образ облеклись, / В одном Онегине слились» [глава III, строфа IX]).
Эпиграф из Мальфилатра, казалось бы, говорит только о всевластии природного закона – закона любви. Но на самом деле об этом говорят процитированные Пушкиным строки в самой поэме Мальфилатра. В соотношении с пушкинским текстом их смысл несколько меняется. О власти любви над сердцем юной девы сказано строками из литературного произведения, причем созданного в ту же самую эпоху (в XVIII столетии), что и питавшие воображение Татьяны романы. Так любовное пробуждение Татьяны превращается из явления «природного» в «литературное», становится свидетельством магнетического воздействия словесности на мир чувств провинциальной барышни.
С нарциссизмом Евгения всё тоже не так просто. Конечно, мифологический образ Нарцисса простится на роль «зеркала» для Онегина: самовлюблённый красавец отверг несчастную нимфу, Онегин отвернулся от влюблённой Татьяны. В четвёртой главе, отвечая на тронувшее его признание Татьяны, Евгений признаётся в собственном эгоизме. Но самовлюблённость Нарцисса ему всё-таки чужда, он не полюбил Татьяну не оттого, что любил лишь себя самого.
Эпиграф к четвёртой главе, «Нравственность в природе вещей», изречение французского политика и финансиста Ж. Неккера, Ю. М. Лотман истолковывает как иронический: «В сопоставлении с содержанием главы эпиграф получает ироническое звучание. Неккер говорит о том, что нравственность – основа поведение человека и общества. Однако в русском контексте слово “мораль” могло звучать и как нравоучение, проповедь нравственности <...>. Показательна ошибка Бродского, который перевёл эпиграф: “Нравоучение в природе вещей” <…>. Возможность двусмысленности, при которой нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине “сверкающий взорами” герой, создавала ситуацию скрытого комизма» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 453).
Но этот эпиграф имеет, несомненно, и иной смысл. Отвечая на признание Татьяны, Онегин и вправду несколько неожиданно надевает маску «моралиста» («Так проповедовал Евгений» [глава IV, строфа XVII]). И позднее, в свой черед отвечая на признание Евгения, Татьяна с обидой вспомнит его менторский тон. Но она отметит и оценит и другое: «Вы поступили благородно» (глава VIII, строфа XLIII). Не будучи Грандисоном, Евгений не поступил и как Ловлас, отвергнув амплуа циничного соблазнителя. Поступил, в этом отношении, нравственно. Ответ героя на признание неопытной девушки оказывается неоднозначным. Поэтому перевод Н. Л. Бродского, несмотря на фактическую неточность, не лишён смысла. Нравоучение Евгения в чём-то нравственно.
Эпиграф к пятой главе из баллады В. А. Жуковского «Светлана», «О, не знай сих страшных снов, / Ты, моя Светлана!», Ю. М. Лотман объясняет так: «<…> Заданное эпиграфом “двойничество” Светланы Жуковского и Татьяны Лариной раскрывало не только параллелизм их народности, но и глубокое отличие в трактовке образа одного, ориентированного на романтическую фантастику и игру, другого – на бытовую и психологическую реальность» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 478).
В реальности пушкинского текста соотнесённость Светланы и Татьяны более сложная. Ещё в начале третьей главы со Светланой сравнивает Татьяну Ленский: «- Да та, которая грустна / И молчалива, как Светлана» (строфа V). Сон пушкинской героини в отличие от сна Светланы оказывается пророческим и, в этом смысле, «более романтическим», чем сновидение героини баллады. Онегин, спешащий на свидание с Татьяной – петербургской княгиней, «идёт, на мертвеца похожий» (глава VIII, строфа XL), словно жених-мертвец в балладе Жуковского. Влюблённый Онегин пребывает в «странном сне» (глава VIII, строфа XXI). А Татьяна теперь «теперь окружена / Крещенским холодом» (глава VIII, строфа XXXIII). Крещенский холод – метафора, напоминающая о гаданиях Светланы, происходивших на святках, в дни от Рождества до Крещения.
Пушкин то отклоняется от романтического балладного сюжета, то превращает события «Светланы» в метафоры, то оживляет балладную фантастику и мистику.
Эпиграф к шестой главе, взятый из канцоны Ф. Петрарки, в русском переводе звучащий «Там, где дни облачны и кратки, / Родится племя, которому умирать не больно», глубоко проанализирован Ю. М. Лотманом: «П<ушкин>, цитируя, опустил средний стих, отчего смысл цитаты изменился: У Петрарки: “Там, где дни туманны и кратки – прирождённый враг мира – родится народ, которому не больно умирать”. Причина отсутствия страха смерти – во врождённой свирепости этого племени. С пропуском среднего стиха возникла возможность истолковать причину небоязни смерти иначе, как следствие разочарованности и “преждевременной старости души”» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 510).
Безусловно, изъятие одной строки разительно меняет смысл строк Петрарки, и к эпиграфу легко подбирается элегический ключ. Мотивы разочарования, преждевременной старости души традиционны для жанра элегии, а Ленский, о смерти которого повествуется в шестой главе, отдал этому жанру щедрую дань: «Он пел поблёклый жизни цвет, / Без малого в осьмнадцать лет» (глава II, строфа Х). Но на дуэль Владимир вышел с желанием не умереть, а убить. Отомстить обидчику. Он был убит наповал, но проститься с жизнью ему было больно.
Так петрарковский текст, элегический код и реалии созданного Пушкиным художественного мира благодаря взаимному наложению создают мерцание смыслов.
На этом остановимся. Роль эпиграфов к седьмой главе ёмко и полно описана Ю. М. Лотманом, различные, взаимодополняющие, толкования эпиграфа из Байрона к восьмой главе даны в комментариях Н. Л. Броского и Ю. М. Лотмана.
Пожалуй, стоило бы напомнить лишь об одном. Роман Пушкина – «многоязычен», в нём сведены вместе разные стили и даже разные языки – в буквальном значении слова. (Стилевая многомерность «Евгения Онегина» замечательно прослежена в книге С. Г. Бочарова «Поэтика Пушкина» [М., 1974].) Внешний, самый заметный признак этого «многоязычия» - эпиграфы к роману: французские, русские, латинский, итальянский, английский.
Эпиграфы к пушкинскому роману в стихах подобны тому «магическому кристаллу», с которым сравнил своё творение сам поэт. Увиденные сквозь их причудливое стекло, главы пушкинского текста обретают новые очертания, оборачиваются новыми гранями.
Ранчин А. М.
Об эпиграфах в пушкинском романе в стихах написано очень много. И всё же роль эпиграфов, их соотношение в текстом глав по-прежнему ясны не полностью. Попробуем, не претендуя на безусловную новизну истолкований, не торопясь перечитать роман. Ориентирами в этом перечитывании – путешествии по небольшому и бескрайнему пространству текста – будут три известных комментария: «“Евгений Онегин”. Роман А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы» Н. Л. Бродского (1-е изд.: 1932), «Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий» Ю. М. Лотмана (1-е изд.: 1980) и «Комментарий к роману А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» В. В. Набокова (1-е изд., на английском языке: 1964).
Начнем, естественно, с начала – с французского эпиграфа ко всему тексту романа (В. В. Набоков назвал его «главным эпиграфом»). В русском переводе эти строки, якобы взятые из некоего частного письма, звучат так: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того особой гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, - следствие чувства превосходства, быть может мнимого».
Не касаясь покамест содержания, задумаемся о форме этого эпиграфа, зададим себе два вопроса. Во-первых, почему эти строки представлены автором произведения как фрагмент из частного письма? Во-вторых, почему они написаны по-французски?
Указание на частное письмо как на источник эпиграфа призвано, прежде всего, придать Онегину черты реальной личности: Евгений якобы существует на самом деле, и кто-то из его знакомых даёт ему такую аттестацию в письме к ещё одному общему знакомому. На реальность Онегина Пушкин будет указывать и позже: «Онегин, добрый мой приятель» (гл. I, строфа II). Строки из частного письма придают повествованию об Онегине оттенок некоей интимности, почти светской болтовни, пересудов и «сплетен».
Подлинный источник этого эпиграфа – литературный. Как указал Ю. Семёнов, а затем, независимо от него, В. В. Набоков, это французский перевод сочинения английского социального мыслителя Э. Бёрка «Мысли и подробности о скудости» (Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Пер. с англ. СПб., 1998. С. 19, 86-88). Эпиграф, как, впрочем, и другие эпиграфы в романе, оказывается «с двойным дном»: его подлинный источник надёжно спрятан от пытливых глаз читателя. В.И. Арнольдом указывался другой источник – роман Ш. де Лакло «Опасные связи».
Французский язык письма свидетельствует, что лицо, о котором сообщается, несомненно, принадлежит к высшему свету, в котором в России господствовал французский, а не русский язык. И в самом деле, Онегин, хотя в восьмой главе и будет противопоставлен свету, персонифицированному в образе «N. N. прекрасного человека» (строфа Х), - молодой человек из столичного света, и принадлежность к светскому обществу – одна из его наиболее важных его характеристик. Онегин – русский европеец, «москвич в Гарольдовом плаще» (глава VII, строфа XXIV), усердный читатель современных французских романов. Французский язык письма ассоциируется с европеизмом Евгения. Татьяна, просмотрев книги из его библиотеки, даже задаётся вопросом: «Уж не пародия ли он?» (глава VII, строфа XXIV). И если от подобной мысли, высказанной собирательным читателем из высшего света в восьмой главе, Автор решительно защищает героя, то с Татьяной он спорить не осмеливается: её предположение остаётся и не подтверждённым, и не опровергнутым. Заметим, что в отношении Татьяны, вдохновенно подражающей героиням сентиментальных романов, суждение о наигранности, неискренности не высказывается даже в форме вопроса. Она «выше» таких подозрений.
Теперь о содержании «главного эпиграфа». Главное в нём - противоречивость характеристики лица, о котором говорится в «частном письме». С тщеславием соединена некая особенная гордость, вроде бы проявляющаяся в безразличии к мнению людей (потому и признаётся «он» с равнодушием как в добрых, так и в злых поступках). Но не мнимое ли это безразличие, не стоит ли за ним сильное желание снискать, пусть неблагосклонное, внимание толпы, явить свою оригинальность. А выше ли «он» окружающих? И да («чувство превосходства»), и нет («быть может мнимого»). Так начиная с «главного эпиграфа», задано сложное отношение Автора к герою, указано, что читатель не должен ожидать однозначной оценки Евгения его создателем и «приятелем». Слова «И да и нет» - этот ответ на вопрос об Онегине «Знаком он вам?» (глава 8, строфа VIII) принадлежит, кажется, не только голосу света, но и самому творцу Евгения.
Первая глава открывается строкой из знаменитой элегии пушкинского друга князя П. А. Вяземского «Первый снег»: «И жить торопится и чувствовать спешит». В стихотворении Вяземского эта строка выражает упоение, наслаждение жизнью и её главным даром – любовью. Герой и его возлюбленная несутся в санях по первому снегу; природа объята оцепенением смерти под белой пеленой; он и она пылают страстью:
Кто может выразить счастливцев упоенье?
Как вьюга лёгкая, их окрилённый бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг.
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит.
Вяземский пишет о радостном упоении страстью, Пушкин в первой главе своего романа – о горьких плодах этого упоения. О пресыщении. О преждевременной старости души. А в начале первой главы Онегин летит «в пыли на почтовых», поспешая в деревню к больному и горячо нелюбимому ляде, а не катается в санях с прелестницей. В деревне Евгения встречает не оцепеневшая зимняя природа, а цветущие поля, но ему, живому мертвецу, в том нет отрады. Мотив из «Первого снега» «перевёрнут», обращён в свою противоположность. Как заметил Ю. М. Лотман, гедонизм «Первого снега» был открыто оспорен автором «Евгения Онегина» в IX строфе первой главы, изъятой из окончательного текста романа (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий // Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах. М., 1991. С. 326).
Эпиграф из римского поэта Горация «O rus!…» («О деревня», лат.) с псведопереводом «О Русь!», построенным на созвучии латинских и русских слов, - на первый взгляд, не более чем пример каламбура, языковой игры. По мысли Ю. М. Лотмана, «двойной эпиграф создаёт каламбурное противоречие между традицией условно-литературного образа деревни и представлением о реальной русской деревне» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 388). Вероятно, одна из функций этой «двойчатки» именно такова. Но она не единственная и, может быть, не самая главная. Диктуемое каламбурным созвучием отождествление «деревни» и «России» в конечном итоге вполне серьёзно: именно русская деревня предстаёт в пушкинском романе квинтэссенцией русской национальной жизни. А кроме того, этот эпиграф – своего рода модель поэтического механизма всего пушкинского произведения, строящегося на переключении из серьёзного плана в шутливый и наоборот, демонстрирующего вездесущесть и ограниченность переводимых смыслов. (Вспомним хотя бы иронический перевод исполненных бесцветных метафор преддуэльных стихов Ленского: «Всё это значило, друзья: // С приятелем стреляюсь я» [глава V, строфы XV, XVI, XVII]).
Французский эпиграф из поэмы «Нарцисс, или Остров Венеры» Ш. Л. К. Мальфилатра, переводимый на русский как: «Она была девушка, она была влюблена», открывает главу третью. У Мальфилатра говорится о безответной любви нимфы Эхо к Нарциссу. Смысл эпиграфа достаточно прозрачен. Вот как его описывает В. В. Набоков, приводящий более пространную, чем Пушкин, цитату, из поэмы: «“Она [нимфа Эхо] была девушка [и следовательно – любопытна, как это свойственно им всем]; [более того], она была влюблена… Я её прощаю, [как это должно быть прощено моей Татьяне]; любовь её сделала виновной <…>. О если бы судьба её извинила также!”
Согласно греческой мифологии, нимфа Эхо, зачахнувшая от любви к Нарциссу (который, в свою очередь, изнемог от безответной страсти к собственному отражению), превратилась в лесной голос, подобно Татьяне в гл. 7, XXVIII, когда образ Онегина проступает перед ней на полях читанной им книги (гл. 7, XXII-XXIV)» (Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 282).
Однако соотношение эпиграфа и текста третьей главы всё же более сложно. Пробуждение в Татьяне любви к Онегину истолковывается в тексте романа и как следствие природного закона («Пришла пора, она влюбилась. / Так в землю падшее зерно / Весны огнём оживлено» [глава III, строфа VII]), и как воплощение фантазий, игры воображения, навеянной прочитанными чувствительными романами («Счастливой силою мечтанья / Одушевлённые созданья, / Любовник Юлии Вольмар, / Малек-Адель и де Линар, / И Вертер, мученик мятежный, / И бесподобный Грандисон, <…> Все для мечтательницы нежной / В единый образ облеклись, / В одном Онегине слились» [глава III, строфа IX]).
Эпиграф из Мальфилатра, казалось бы, говорит только о всевластии природного закона – закона любви. Но на самом деле об этом говорят процитированные Пушкиным строки в самой поэме Мальфилатра. В соотношении с пушкинским текстом их смысл несколько меняется. О власти любви над сердцем юной девы сказано строками из литературного произведения, причем созданного в ту же самую эпоху (в XVIII столетии), что и питавшие воображение Татьяны романы. Так любовное пробуждение Татьяны превращается из явления «природного» в «литературное», становится свидетельством магнетического воздействия словесности на мир чувств провинциальной барышни.
С нарциссизмом Евгения всё тоже не так просто. Конечно, мифологический образ Нарцисса простится на роль «зеркала» для Онегина: самовлюблённый красавец отверг несчастную нимфу, Онегин отвернулся от влюблённой Татьяны. В четвёртой главе, отвечая на тронувшее его признание Татьяны, Евгений признаётся в собственном эгоизме. Но самовлюблённость Нарцисса ему всё-таки чужда, он не полюбил Татьяну не оттого, что любил лишь себя самого.
Об эпиграфах в пушкинском романе в стихах написано очень много. И всё же роль эпиграфов, их соотношение с текстом глав по-прежнему ясны не полностью. Попробуем, не претендуя на безусловную новизну истолкований, не торопясь перечитать роман. Ориентирами в этом перечитывании - путешествии по небольшому и бескрайнему пространству текста - будут три известных комментария: «“Евгений Онегин”. Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина. Пособие для учителей средней школы» Н. Л. Бродского (1-е изд., 1932), «Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий» Ю. М. Лотмана (1-е изд., 1980) и «Комментарий к роману А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» В. В. Набокова (1-е изд., на английском языке, 1964).
Начнём, естественно, с начала - с французского эпиграфа ко всему тексту романа (В. В. Набоков назвал его “главным эпиграфом”). В русском переводе эти строки, якобы взятые из некоего частного письма, звучат так: “Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того особой гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, - следствие чувства превосходства, быть может, мнимого”.
Не касаясь покамест содержания, задумаемся о форме этого эпиграфа, зададим себе два вопроса. Во-первых, почему эти строки представлены автором произведения как фрагмент из частного письма? Во-вторых, почему они написаны по-французски?
Указание на частное письмо как на источник эпиграфа призвано, прежде всего, придать Онегину черты реальной личности: Евгений якобы существует на самом деле, и кто-то из его знакомых даёт ему такую аттестацию в письме к ещё одному общему знакомому. На реальность Онегина Пушкин будет указывать и позже: “Онегин, добрый мой приятель” (гл. первая, строфа II). Строки из частного письма придают повествованию об Онегине оттенок некоей интимности, почти светской болтовни, пересудов и “сплетен”.
Подлинный источник этого эпиграфа - литературный. Как указал Ю. Семёнов, а затем, независимо от него, В. В. Набоков, это французский перевод сочинения английского социального мыслителя Э. Бёрка «Мысли и подробности о скудости» (Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Пер. с англ. СПб., 1998. С. 19, 86–88). Эпиграф, как, впрочем, и другие эпиграфы в романе, оказывается “с двойным дном”: его подлинный источник надёжно спрятан от пытливых глаз читателя.
Французский язык письма свидетельствует, что лицо, о котором сообщается, несомненно, принадлежит к высшему свету, в котором в России господствовал французский, а не русский язык. И в самом деле, Онегин, хотя в восьмой главе и будет противопоставлен свету, персонифицированному в образе “N. N. прекрасного человека” (строфа Х), - молодой человек из столичного света, и принадлежность к светскому обществу - одна из наиболее важных его характеристик. Онегин - русский европеец, “москвич в Гарольдовом плаще” (глава седьмая, строфа XXIV), усердный читатель современных французских романов. Французский язык письма ассоциируется с европеизмом Евгения. Татьяна, просмотрев книги из его библиотеки, даже задаётся вопросом: “Уж не пародия ли он?” (глава седьмая, строфа XXIV). И если от подобной мысли, высказанной собирательным читателем из высшего света в восьмой главе, автор решительно защищает героя, то с Татьяной он спорить не осмеливается: её предположение остаётся и не подтверждённым, и не опровергнутым. Заметим, что в отношении Татьяны, вдохновенно подражающей героиням сентиментальных романов, суждение о наигранности, неискренности не высказывается даже в форме вопроса. Она “выше” таких подозрений.
Теперь о содержании “главного эпиграфа”. Главное в нём - противоречивость характеристики лица, о котором говорится в “частном письме”. С тщеславием соединена некая особенная гордость, вроде бы проявляющаяся в безразличии к мнению людей (потому и признаётся “он” с равнодушием как в добрых, так и в злых поступках). Но не мнимое ли это безразличие, не стоит ли за ним сильное желание снискать, пусть неблагосклонное, внимание толпы, явить свою оригинальность? А выше ли “он” окружающих? И да (“чувство превосходства”), и нет (“быть может, мнимого”). Так начиная с “главного эпиграфа” задано сложное отношение автора к герою, указано, что читатель не должен ожидать однозначной оценки Евгения его создателем и “приятелем”. Слова “И да и нет” - этот ответ на вопрос об Онегине “Знаком он вам?” (глава восьмая, строфа VIII) принадлежит, кажется, не только голосу света, но и самому творцу Евгения.
Первая глава открывается строкой из знаменитой элегии пушкинского друга князя П. А. Вяземского «Первый снег»: “И жить торопится и чувствовать спешит”. В стихотворении Вяземского эта строка выражает упоение, наслаждение жизнью и её главным даром - любовью. Герой и его возлюбленная несутся в санях по первому снегу; природа объята оцепенением смерти под белой пеленой; он и она пылают страстью.
Кто может выразить счастливцев упоенье?
Как вьюга лёгкая, их окрилённый бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Стеснилось время им в один крылатый миг.
По жизни так скользит горячность молодая,
И жить торопится, и чувствовать спешит.
Вяземский пишет о радостном упоении страстью, Пушкин в первой главе своего романа - о горьких плодах этого упоения. О пресыщении. О преждевременной старости души. А в начале первой главы Онегин летит “в пыли на почтовых”, поспешая в деревню к больному и горячо нелюбимому дяде, а не катается в санях с прелестницей. В деревне Евгения встречает не оцепеневшая зимняя природа, а цветущие поля, но ему, живому мертвецу, в том нет отрады. Мотив из «Первого снега» “перевёрнут”, обращён в свою противоположность. Как заметил Ю. М. Лотман, гедонизм «Первого снега» был открыто оспорен автором «Евгения Онегина» в IX строфе первой главы, изъятой из окончательного текста романа (Лотман Ю. М. Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий // Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман (бессмертное произведение) в стихах. М., 1991. С. 326).
Эпиграф из римского поэта Горация “O rus!” (“О деревня” - лат.) с псевдопереводом “О Русь!”, построенным на созвучии латинских и русских слов, - на первый взгляд не более чем пример каламбура, языковой игры. По мысли Ю. М. Лотмана, “двойной эпиграф создаёт каламбурное противоречие между традицией условно-литературного образа деревни и представлением о реальной русской деревне” (Лотман Ю. М. Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 388). Вероятно, одна из функций этой “двойчатки” именно такова. Но она не единственная и, может быть, не самая главная. Диктуемое каламбурным созвучием отождествление “деревни” и “России” в конечном итоге вполне серьёзно: именно русская деревня предстаёт в пушкинском романе квинтэссенцией русской национальной жизни. А кроме того, этот эпиграф - своего рода модель поэтического механизма всего пушкинского произведения, строящегося на переключении из серьёзного плана в шутливый и наоборот, демонстрирующего вездесущесть и ограниченность переводимых смыслов. (Вспомним хотя бы иронический перевод исполненных бесцветных метафор преддуэльных стихов Ленского: “Всё это значило, друзья: // С приятелем стреляюсь я” - глава пятая, строфы XV, XVI, XVII.
Французский эпиграф из поэмы «Нарцисс, или Остров Венеры» Ш. Л.К. Мальфилатра, переводимый на русский как: «Она была девушка, она была влюблена», открывает главу третью. У Мальфилатра говорится о безответной любви нимфы Эхо к Нарциссу. Смысл эпиграфа достаточно прозрачен. Вот как его описывает В. В. Набоков, приводящий более пространную, чем Пушкин, цитату, из поэмы: “«Она [нимфа Эхо] была девушка [и следовательно - любопытна, как это свойственно им всем]; [более того], она была влюблена… Я её прощаю [как это должно быть прощено моей Татьяне]; любовь её сделала виновной <…>. О если бы судьба её извинила также!»
Согласно греческой мифологии, нимфа Эхо, зачахнувшая от любви к Нарциссу (который, в свою очередь, изнемог от безответной страсти к собственному отражению), превратилась в лесной голос, подобно Татьяне в гл. 7, XXVIII, когда образ Онегина проступает перед ней на полях читанной им книги (гл. 7, XXII–XXIV)” (Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 282).
Однако соотношение эпиграфа и текста третьей главы всё же более сложно. Пробуждение в Татьяне любви к Онегину истолковывается в тексте романа и как следствие природного закона (“Пришла пора, она влюбилась. // Так в землю падшее зерно // Весны огнём оживлено” - глава третья, строфа VII), и как воплощение фантазий, игры воображения, навеянной прочитанными чувствительными романами (“Счастливой силою мечтанья // Одушевлённые созданья, // Любовник Юлии Вольмар, // Малек-Адель и де Линар, // И Вертер, мученик мятежный, // И бесподобный Грандисон <…> Все для мечтательницы нежной // В единый образ облеклись, // В одном Онегине слились” - глава третья, строфа IX).
Эпиграф из Мальфилатра, казалось бы, говорит только о всевластии природного закона - закона любви. Но на самом деле об этом говорят процитированные Пушкиным строки в самой поэме Мальфилатра. В соотношении с пушкинским текстом их смысл несколько меняется. О власти любви над сердцем юной девы сказано строками из литературного произведения, причём созданного в ту же самую эпоху (в XVIII столетии), что и питавшие воображение Татьяны романы. Так любовное пробуждение Татьяны превращается из явления “природного” в “литературное”, становится свидетельством магнетического воздействия словесности на мир чувств провинциальной барышни.
С нарциссизмом Евгения всё тоже не так просто. Конечно, мифологический образ Нарцисса просится на роль “зеркала” для Онегина: самовлюблённый красавец отверг несчастную нимфу, Онегин отвернулся от влюблённой Татьяны. В четвёртой главе, отвечая на тронувшее его признание Татьяны, Евгений признаётся в собственном эгоизме. Но самовлюблённость Нарцисса ему всё-таки чужда, он не полюбил Татьяну не оттого, что любил лишь себя самого.
Эпиграф к четвёртой главе - “Нравственность в природе вещей”, изречение французского политика и финансиста Ж. Неккера, Ю. М. Лотман истолковывает как иронический: “В сопоставлении с содержанием главы эпиграф получает ироническое звучание. Неккер говорит о том, что нравственность - основа поведения человека и общества. Однако в русском контексте слово «мораль» могло звучать и как нравоучение, проповедь нравственности <...> Показательна ошибка Бродского, который перевёл эпиграф: «Нравоучение в природе вещей» <…> Возможность двусмысленности, при которой нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине «сверкающий взорами» герой, создавала ситуацию скрытого комизма” (Лотман Ю. М. Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 453).
Но этот эпиграф имеет, несомненно, и иной смысл. Отвечая на признание Татьяны, Онегин и вправду несколько неожиданно надевает маску “моралиста” (“Так проповедовал Евгений” - глава четвёртая, строфа XVII). И позднее, в свой черёд отвечая на признание Евгения, Татьяна с обидой вспомнит его менторский тон. Но она отметит и оценит и другое: “Вы поступили благородно” (глава восьмая, строфа XLIII). Не будучи Грандисоном, Евгений не поступил и как Ловлас, отвергнув амплуа циничного соблазнителя. Поступил, в этом отношении, нравственно. Ответ героя на признание неопытной девушки оказывается неоднозначным. Поэтому перевод Н. Л. Бродского, несмотря на фактическую неточность, не лишён смысла. Нравоучение Евгения в чём-то нравственно.
Эпиграф к пятой главе из баллады В. А. Жуковского «Светлана»: “О, не знай сих страшных снов, // Ты, моя Светлана!” - Ю. М. Лотман объясняет так: “…Заданное эпиграфом «двойничество» Светланы Жуковского и Татьяны Лариной раскрывало не только параллелизм их народности, но и глубокое отличие в трактовке образа одного, ориентированного на романтическую фантастику и игру, другого - на бытовую и психологическую реальность” (Лотман Ю. М. Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 478).
В реальности пушкинского текста соотнесённость Светланы и Татьяны более сложная. Ещё в начале третьей главы со Светланой сравнивает Татьяну Ленский: “Да та, которая грустна // И молчалива, как Светлана” (строфа V). Сон пушкинской героини в отличие от сна Светланы оказывается пророческим и в этом смысле “более романтическим”, чем сновидение героини баллады. Онегин, спешащий на свидание с Татьяной - петербургской княгиней, “идёт, на мертвеца похожий” (глава восьмая, строфа XL), словно жених-мертвец в балладе Жуковского. Влюблённый Онегин пребывает в “странном сне” (глава восьмая, строфа XXI). А Татьяна теперь “теперь окружена // Крещенским холодом” (глава восьмая, строфа XXXIII). Крещенский холод - метафора, напоминающая о гаданиях Светланы, происходивших на святках, в дни от Рождества до Крещения.
Пушкин то отклоняется от романтического балладного сюжета, то превращает события «Светланы» в метафоры, то оживляет балладную фантастику и мистику.
Эпиграф к шестой главе, взятый из канцоны Ф. Петрарки, в русском переводе звучащий “Там, где дни облачны и кратки, // Родится племя, которому умирать не больно”, глубоко проанализирован Ю. М. Лотманом: “П<ушкин>, цитируя, опустил средний стих, отчего смысл цитаты изменился: У Петрарки: «Там, где дни туманны и кратки - прирождённый враг мира - родится народ, которому не больно умирать». Причина отсутствия страха смерти - во врождённой свирепости этого племени. С пропуском среднего стиха возникла возможность истолковать причину небоязни смерти иначе, как следствие разочарованности и «преждевременной старости души»” (Лотман Ю. М. Роман (бессмертное произведение) А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. С. 510).
Безусловно, изъятие одной строки разительно меняет смысл строк Петрарки, и к эпиграфу легко подбирается элегический ключ. Мотивы разочарования, преждевременной старости души традиционны для жанра элегии, а Ленский, о смерти которого рассказывается в шестой главе, отдал этому жанру щедрую дань: “Он пел поблёклый жизни цвет, // Без малого в осьмнадцать лет” (глава вторая, строфа Х). Но на дуэль Владимир вышел с желанием не умереть, а убить. Отомстить обидчику. Он был убит наповал, но проститься с жизнью ему было больно.
Так петрарковский текст, элегический код и реалии созданного Пушкиным художественного мира благодаря взаимному наложению создают мерцание смыслов.
На этом остановимся. Роль эпиграфов к седьмой главе ёмко и полно описана Ю. М. Лотманом, различные, взаимодополняющие толкования эпиграфа из Байрона к восьмой главе даны в комментариях Н. Л. Бродского и Ю. М. Лотмана.
Пожалуй, стоило бы напомнить лишь об одном. Роман (бессмертное произведение) Пушкина - “многоязычен”, в нём сведены вместе разные стили и даже разные языки - в буквальном значении слова. (Стилевая многомерность «Евгения Онегина» замечательно прослежена в книге С. Г. Бочарова «Поэтика Пушкина». М., 1974.) Внешний, самый заметный признак этого “многоязычия” - эпиграфы к роману: французские, русские, латинский, итальянский, английский.
Эпиграфы к пушкинскому роману в стихах подобны тому “магическому кристаллу”, с которым сравнил своё творение сам поэт. Увиденные сквозь их причудливое стекло, главы пушкинского текста обретают неожиданные очертания, оборачиваются новыми гранями.
Эпиграф к роману: “Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, - как следствие чувства превосходства: быть может, мнимого. Из частного письма”.Это - пушкинская характеристика Онегина, но не персонажа романа, а Онегина - автора своих мемуаров. Еще до начала самого повествования название романа увязывается с эпиграфом и посвящением, и это не только дает объемную характеристику героя, но и раскрывает его как “автора”. “Противодействуя” “издателю”, раскрывшему перед читателем то, что он, рассказчик, стремится скрыть, он разрывает смысловую связку между заголовком и эпиграфом, внедряя по праву автора мемуаров слова: “роман в стихах”, хотя сам же в тексте называет его “поэмой”. Сочетание “роман в стихах” приобретает особый смысл: “роман, упрятанный в стихи”, - с намеком, что читателю еще только предстоит извлечь собственно роман из этой внешней формы, из мемуаров Онегина.
Первой главе предшествует посвящение: “Не мысля гордый свет забавить, вниманье дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя”. Сразу бросается в глаза двусмысленность выражения “Залог достойнее тебя” (единственный случай в творческой биографии Пушкина, когда он использовал сравнительную степень этого прилагательного) возникает вопрос: кому адресовано это посвящение? Адресат явно знает писавшего и находится с ним в “пристрастных” отношениях. Сравниваем, в предпоследней строфе романа: “Прости ж и ты, мой спутник странный, и ты, мой вечный идеал...” “Вечный идеал” - Татьяна, о чем писал, в частности, С.М. Бонди. Это ей посвящает свое творение Онегин, а не Плетневу Пушкин - в таком случае посвящение стояло бы перед эпиграфом. Посвящение уже содержит объемную самохарактеристику героя, относящуюся как к периоду описываемых событий, так и к Онегину-“мемуаристу”.
Весомость пушкинского эпиграфа часто отмечалась пушкинистами: из поясняющей надписи эпиграф превращается в выделенную цитату, которая находится в сложных, динамических отношениях с текстом.
Эпиграф может высвечивать часть текста, усиливать отдельные его элементы. Каламбурный эпиграф ко второй главе “Евгения Онегина” выделяет деревенскую часть романа: Русь по преимуществу - деревня, важнейшая часть жизни проходит именно там.
Проецируясь на пушкинского героя, эпиграф к четвертой главе приобретает иронический смысл: нравственность, управляющая миром, путается с нравоучением, которое читает в саду молодой героине “сверкающий взорами” герой. Онегин поступает с Татьяной морально и благородно: он учит ее “властвовать собой”. Чувства нужно рационально контролировать. Однако мы знаем, что сам Онегин научился этому, бурно упражняясь в “науке страсти нежной”. Очевидно, нравственность проистекает не из разумности, а из естественной физической ограниченности человека: “рано чувства в нем остыли” - Онегин стал нравственным поневоле, по причине преждевременной старости, утратил способность получать наслаждение и вместо уроков любви дает уроки морали. Это еще одно возможное значение эпиграфа.