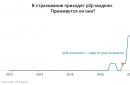17-01-2010
О советизации музыкального исполнительства в СССР.
Через десяток лет после уголовного переворота в России в 1917 году коммунистические власти в целях дальнейшего укрепления рабского тоталитарного режима в стране путем идеологических наскоков стали насильно навязывать деятелям культуры – литературы, музыки, живописи, свои бандитские требования, относившиеся к создателям художественных произведений – писателям, композиторам, художникам.
В беспрекословном подчинении этому диктату особенно тяжело приходилось не только писателям и литературным критикам, но также композиторам, которые должны были писать музыку, угодную властям, и музыковедам, которые должны были врать о любой музыке в форме, доступной для понимания невежественных коммунистических бонз. При этом музыковеды должны были навязывать массам не только лживые представления о новых сочинениях советских композиторов, но и всячески извращать годами и десятилетиями сложившиеся у любителей мировой классической музыки представления.
Вот две наиболее зловещие (и зловонные) книжицы того "славного" времени о музыке зарубежных композиторов ХХ века:
Григорий Шнеерсон "Музыка на службе реакции", М–Л. 1950.
Григорий Шнеерсон "О музыке живой и мертвой", М.1964.
Исполнителям–итерпретаторам музыки также приходилось несладко: подчас от них требовали советизации произведений русской и мировой классической музыки. Мало кому из музыкантов–исполнителей советской эпохи удалось противостоять давлению коммунистической идеологии, дабы не запятнать свою репутацию честных служителей музыки. Среди великих музыкантов, не подчинившихся коммунистическому диктату, позволю себе назвать двух гениальных исполнителей: русского дирижера Николая Голованова и русского певца Ивана Козловского. Им обоим это удалось главным образом потому, что от советчины их оградила вера в Бога, а уничтожить эту веру и привлечь на свою сторону коммунистам не удалось.
ГОЛОВАНОВ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ (1891-1953), русский композитор, дирижер.
В 1948 – 1953 годах был главным дирижером и художественным руководителем московского Большого театра. Дирижерская деятельность Голованова в Большом театре началась с 1915 года. Он был гениальным постановщиком и дирижером почти всех великих опер, созданных русскими композиторами. Помимо Большого театра, он продирижировал токже рядом русских опер в концертном исполнении и с разными оркестрами. Был он также и прекрасным исполнителем симфонической музыки многих русских и ряда зарубежных композиторов. Какое–то самое незначительное участие он принимал также и в дирижировании сочинениями советских композиторов, но продирижировав Первой симфонией и Первым концертом для ф–но с орк. главного советского композитора Шостаковича, любые сочинения которого усердно затем навязывались властями, в последствии полностью проигнорировал всю остальную его музыку.
О жизненном пути великого русского дирижера была издана обширная монография (на 143 стр.) Г.Прибегиной "Николай Семенович Голованов", М.1990.
Чтобы представить себе значение и величие Голованова, человека и музыканта, для русской музыки, достаточно прочесть в предисловии к указанной монографии характеристику, данную ему его преемником на посту главного дирижера Большого театра Евгением Светлановым, назвавшим Голованова "титаном дирижерского искусства":
"Дирижер, которому я всегда поклонялся и которому невольно во многом подражал (особенно вначале, когда решил взять палочку в руки), лично для меня был недосягаем..."
К этой характеристике лично от себя могу добавить, что на основании записей опер, прозвучавших под управлением Голованова, можно утверждать, что среди всех русских дирижеров ХХ века не было ему равного ни по музыкально–художественному таланту, ни по силе воздействия на слушателей.
Я до сих пор вспоминаю с сожалением, что в середине сороковых мне не удалось посетить концерт Голованова в Ленинградской филармонии, в котором певицы Мария Максакова и Наталия Шпиллер исполняли сочиненные им романсы на стихи Анны Ахматовой и Сергея Есенина с его авторским фортепианным сопровождением. Но в моем музыкальном собрании сохранились записи дуэтов Ивана Козловского с Антониной Неждановой и Елизаветой Шумской, а также арий из опер и песен в исп. Козловского с фортепианным сопровождением Голованова, либо с орк. под его управлением. Я также с сожалением вспоминаю, что в конце сороковых при моем посещении в Большом театре гениальной головановской постановки "Бориса Годунова" Николая Голованова за дирижерским пультом замещал Александр Мелик–Пашаев.
Поэтому искусство великого дирижера я с огромным наслаждением для себя познал лишь по его гениальным записям, которые слушал и продолжаю слушать на протяжении более 50 лет. Записи опер Мусоргского "Борис Годунов" и Римского–Корсакова "Садко" и "Ночь перед Рождеством" под управлением Голованова, на мой взгляд, можно считать эталонами русского оперного дирижерского искусства и шедеврами мирового класса. В этих операх заняты выдающиеся певцы того времени:
–В записях "Бориса Годунова": Александр Пирогов и Марк Рейзен в роли Бориса (с ними были изданы два разных комплекта оперы), Максим Михайлов (Пимен), Никандр Ханаев (Шуйский), Георгий Нэлепп (Самозванец), Мария Максакова (Марина Мнишек), Иван Козловский (Юродивый).
–В записи "Садко": Георгий Нэлепп (Садко), Вера Давыдова (Любава), Елизавета Шумская (Волхова), Варяжский гость (Марк Рейзен), Индийский Гость (Иван Козловский), Веденецкий гость (Павел Лисициан).
–В записи "Ночи перед Рождеством": Дмитрий Тархов (Вакула), Наталия Шпиллер (Оксана), Сергей Мигай (Голова).
По составу певцов и вокальному исполнению этих опер, на мой взгляд, в мире записей лучших аналогов не существует и они являются уникальными. Среди этих записей для меня самой любимой и чаще других слушаемой является запись оперы Римского–Корсакова "Ночь перед Рождеством", которая записана Головановым с солистами Большого театра и Московского радио. Вокальный потенциал и исключительная музыкальность выдающегося певца–тенора Дмитрия Тархова, на мой взгляд, не уступают по силе и красоте звучания даже записям известных мировых вагнеровских певцов, сравнение со звукоизвлечением которых естественно возникает при слушании сцен оперы с русским богатырем кузнецом Вакулой.
К сожалению, в интернете очень мало записей, в которых представлено искусство Голованова – дирижера. Отсутствие сцен из "Бориса Годунова" под управлением Голованова объясняется наличием многих сцен взятых из кинофильма "Борис Годунов", сделанного на базе головановской постановки, но п/у дирижера Василия Небольсина.
Вот некоторые найденные фрагменты:
(1)Christmas Eve Overture: Rimsky-Korsakov (Golovanov)
(2)Sadko - Georgi Nelepp - Ty prosti druzhinushka podnachalnaja
Cond.Nikolai Golovanov
(3)Alexander Scriabin - Piano Concerto #1 - Heinrich Neighaus
Nikolai Golovanov - 1 - Allegro
Внимательно изучая запись "Бориса Годунова", можно сделать целый ряд предположений о том, каких невероятных усилий, помимо чисто творческих, стоила дирижеру постановка этой великой русской музыкальной драмы–оперы. Дело в том, что в СССР коммунистические бонзы всегда вмешивались в творческий процесс музыкантов, навязывая свои представления и требования. В противостоянии их идиотским требованиям Голованову даже иногда приходилось временно покидать поле битвы и уходить из театра.
Хочу отметить два важныx момента, связанных с постановкой "Бориса".
–Во первых, Головановым эта опера была поставлена в 1948 году в оркестровой редакции Римского–Корсакова, хотя в то время уже появилась масса других редакций в основном спекулятивного характера, и он как музыкальный руководитель наверняка испытывал огромное давление с разных сторон от попыток навязать Большому театру другие редакции, и в частности, советскую редакцию Шостаковича, которую можно охарактеризовть четверостишием:
Он сунулся к "Борису" с оркестровкой,
Кощунственной совковой перестройкой,
И покалечил оперу изрядно,
На музыку надев оковы рядно.
Слава Богу в Большом театре в те годы советская редакция "Бориса Годунова", сделанная Шостаковичем, принята не была, и благодарить за это, наверное, следует Голованова, который осуществил постановку великой русской оперы в редакции Римского–Корсакова.
Здесь я позволю себе некоторое отступление и выскажу свои собственные взгляды относительно новаторства, приписываемого многими музыковедами композитору Модесту Мусоргского. А считать и изображать его каким–то особым новатором в музыке советским гориллам от музыки потребовалось потому, что из всех великих русских композиторов совдеповские власти считали Мусоргского социально наиболее близким.
Был ли Мусоргский новатором в музыке? Поллагаю, что нет, поскольку считаю, что в операх "Борис Годунов" и "Хованщина" он проявил себя скорее не новатором, а талантливым компилятором. При сочинении этих опер, на мой взгляд, он отталкивался от реально новаторской оперы Даргомыжского "Каменный гость", в создании которой принимал непосредственное участие как певец, и от опер Верди "Риголетто" и "Трубадур", с которыми, следует полагать, был прекрасно знаком. При сочинении "Хованщины" вслед за сочинением "Бориса" Мусоргский в целях большей мелодизации значительно сократил количество речитативов, что можно расценивать как его шаг в противоположную от "новаторства" сторону.
Навязывание "Бориса Годунова" в качестве новаторской оперы, пожалуй, и привело к появлению всякого рода спекулянтов от музыки, предлагавших свои редакции потому, что композитор Римский–Корсаков (кстати, нисколько не менее великий композитор, чем Мусоргский), в чьей редакции опера шла с 1904 года, по мнению некоторых невежественных музыковедов, якобы выхолостил и ухудшил музыкальный плот оперы, сделал оперу менее новаторской. Хотя, в действительности, Римский–Корсаков внес в эти оперы не менее весомый вклад, чем композитор их создавший. Смею надеяться, что когда–нибудь в будущем справедливость будет восстановлена и оперы Мусоргского станут именовать операми Мусоргского – Римского–Корсакова.
–Во вторых, Голованов при постановке оперы в редакции Римского–Корсакова совершенно правильно удалил из польского акта сцены с иезуитом Рангони. Я лично считаю, что подобный смелый шаг постановщика освободил оперу от ненужных длиннот.
Как появился и кому нужен был иезуют Рангони в опере "Борис Годунов"? В первой редакции Мусоргского не было польского акта и не было Рангони.
Мусоргский ввел польский акт вместе с Рангони после переработки оперы, которая в первой редакции Мариинским театром была отклонена. Сцены с Рангони в музыкальном отношении никакого интереса не представляют, а Римский–Корсаков, создавая свою оркестровую редакцию "Бориса", взамен второй редакции Мусоргского, очевидно, постеснялся лишние для оперы сцены удалить.
Но Голованов, хвала ему, не постеснялся. Только как ему удалось этого добиться, если образ иезуита Рангони для целей коммунистической пропаганды мог бы с успехом использоваться лживыми советскими музыковедами? Полагаю, потому что Голованов был не только великим музыкантом, но и выдающимся дирижером–борцом, борцом не только за исполнение музыки на высочайшем художественном уровне, но и против навязываемой советизации классических музыкальных произведений.
КОНДРАШИН, КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ (1914-1981), советский дирижер.
В 1943 был приглашен в московский Большой театр, где успешно работал в течение 13 лет. В 1956, оставив театр, стал дирижером-гастролером, работал с разными столичными и периферийными оркестрами. В 1978 Кондрашин самостоятельно решил покинуть СССР. Умер Кондрашин в Голландии.
Судьбу выдающегося музыканта прошлого и уровень его таланта можно отследить частично по его биографии, а более полно – по оставленным им для потомства музыкальным записям. Без приличного знания музыкального наследия дирижера Кирилла Кондрашина и без их тщательного анализа в согласовании с его поведением и его поступками вряд ли возможно сделать правильные выводы. В условиях СССР успехи на музыкальном поприще во многом были связаны не только с талантом, но и с умением приспосабливаться к существовавшим социальным условиям, хорошо понимать не только своих коллег, но и публику, в контакте с которой приходилось работать.
Для подъема на высшие ступени в советском музыкальном искусстве нужными качествами дирижер Кирилл Кондрашин в полной мере не обладал. Вступив в 25–летнем возрасте в коммунистическую партию, надо полагать, он решил, что его творческому движению ничего больше мешать не будет.
Он, действительно, был исключительно талантлив, многое понимал и многое знал. Он не мог не знать, что дирижер Мравинский, возглавивший оркестр Ленинградской филармонии, по сравнению с ним, абсолютный слабак, не умеющий дирижировать операми и на концертах аккомпанировать солистам, в чем он, Кондрашин, чувствовал свою силу и свое явное музыкальное превосходство.
В 1943 он был принят дирижером в Большой театр, но его карьера не сложилась изначально: ему не сочли нужным доверить дирижирование главными операми русского репертуара, такими как "Борис Годунов", "Садко", "Евгений Онегин", "Пиковая дама". До 1956 года он терпел, и внезапно сам решил оставить работу в Большом.
Почему он так решил? На мой взгляд, потому как считал себя не слабее своих коллег–дирижеров. Ему надоело быть дирижером не собственно Большого театра, а его филиала, в котором, в основном, ему приходилось дирижировать из–за репертуара, отведенного ему начальством.
Был ли он достоин лучшей карьеры в Большом театре? Полагаю, что нет, потому что дирижерский состав Большого был исключительно сильным. Окончательно Кондрашина мог подкосить перевод из Мариинского театра в Большой в 1954 году Бориса Хайкина, в прошлом одного из его учителей, который был как оперный дирижер значительно его сильнее, на дирижирование главными операми театра. И в том же 1954–м дирижером театра был приглашен Евгений Светланов (моложе Кондрашина на 14 лет), ставший впоследствии, в 1963 г., главным дирижером театра.
На мой взгляд, Кондрашин знчительно себя переоценивал, и его уход из Большого в 42–х летнем возрасте, по собственному желанию, можно расценивать либо как глупость (или даже как прелюдию к смерти, пока творческой), потому что он бесспорно был выдающимся оперным дирижером, либо как алчность и желание главенствовать. Последовавшее возглавление им оркестра Московской филармонии удовлетворило оба эти его желания, поскольку открывло перед ним неограниченные возможности для зарубежных гастролей.
Думаю, что для многих любителей оперной музыки слушание после прекрасных опер настырных и однообразных советских симфоний Шостаковича является музыкальным наказанием. Поэтому никогда не смогу понять, как мог талантливый и успешный оперный дирижер обратиться после дирижирования операми к дирижированию симфониями Шостаковича, если работа оперного дирижера ему нравилась.
А Кондрашину работа оперного дирижера опеделенно нравилась, о чем можно прочесть в книге В. Ражникова "Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни", М. 1989.
В книге много интересного. И с каким восторгом в ней Кондрашин рссказывает о своей работе оперным дирижером. На стр.51 читаем:
–"Мой оперный дебют – "Чио–Чио–сан" – в январе 37 года прошел удачно и стал моим коронным. Он был первым и последним оперным спектаклем, которым я дирижировал в 58 году в Чикаго с Ренатой Тебальди и Джузеппе ди Стефано".
Больше 20ти лет Кондрашин посвятил дирижированию операми, и неужели даже ради большего заработка следовало отказаться от работы, интереснее которой не только в его жизни выдающегося специалиста в этой области, но и любого другого, способного к этому дирижера, вообще ничего на свете не могло быть? И после этого – музыка Шостаковича? Смешно и грустно.
Также из книги В.Ражникова.
На девяти страницах в ней советский дирижер Кондрашин рассказывает о деятельности великого русского дирижера Голованова. В его рассказе не только много забавного о Голованове как о дирижере и человеке, но также раскрываются и некоторые черты личности самого Кондрашина, подтверждающие его незыблемую советскость (стр.131):
–"... в 1947 году (я) работал уже четыре года; вел большой репертуар и своей партийной активностью сразу же заслужил его (Голованова) неприязненное отношение. Он человек старых устоев, довольно религиозный.
И вот ему такая прыткость молодого дирижера была не очень по нутру. Я был заместителем секретаря партбюро..."
(Примерно в это самое и более позднее время меня довольно часто "прорабатывали" разные партийные бооссы во время учебы в институте и на моих работах. Они не могли не почувствовать мое внутреннее к ним отвращение и часто пытались меня зацепить, но, слава Богу, безуспешно. ЯР).
Но в конце своих воспоминий о Голованове Кондрашин дает о нем прекрасный отзыв (стр. 135), который и его самого характеризует как умного и многое понимающего музыканта:
"...сейчас для меня эти три фигуры: Голованов, Пазовский и Самосуд – являются образцами. Каждый был велик по–своему:... Голованов –музыкально–драматургическим мышлением".
Позволю себе привести некоторые примеры из музыкальной деятельности, дирижера Кирилла Кондрашина, которые, на мой взгляд, могли бы подтвердить, что он не был кузнецом своего счастья и многое делал себе во вред.
Прекрасная запись "Проданной невесты" Б. Сметана, сделанная Кондрашиным в начале пятидесятых, мне так понравилась, что и теперь осталась одной из моих часто слушаемых оперных записей. В ней Кондрашину удалось добиться музыкального единства певцов и оркестра. На главную партию он привлек Георгия Нэлеппа, который оказался вполне на месте, поскольку более подходящего певца для этой оперы в Большом театре просто не было.
(4)Prodaná nevěsta - Georgi Nelepp & Nikolai Shergoloff
Cond. Kirill Kondrashin
Несколько слов о Нэлеппе. Впервые я услышал его Мариинском театре в роли Германа ("Пиковая дама") в середине сороковых. Он тогда был уже переведен в Большой и допевал последние спектакли, которые я умудрился все посетить ("Чародейку", "Ивана Сусанина"). Публика его не жаловала и его выход апплодисментами не встречала. Голос его в театре казался серым и безликим. Германа его я воспринял как пустое место. Но времена изменились. Появились долгоиграющие пластинки, и я стал воспринимать пение Нэлеппа иначе. Стал чувствовать его музыкальность. Позже Нэлепп стал одним из премьеров, спел и записал в Большом Радамеса в "Аиде" и Хозе в "Кармен". Но его чисто русский голос абсолютно не годился для этих партий, и эти записи могут теперь восприниматься лишь как советский музыкальный курьез.
И вот Кондрашин, забыв о том, что для публики певцы важнее дирижеров, в опере "Галька" Монюшко ставит Нэлеппа на главную партию Йонтека, хотя для московской публики тот ни звездой, ни любимцем не стал. В этой опере много красивых мелодий, но держится она, в основном, на арии (думке) Йонтека, и для Ивана Козловского – это одна из самых любимых партий. Настолько любимая, что на склоне лет (84 года в 1984–м) он решил записаться в ней, но после записи запретил ее к публикации из–за недовольства исполнением партнеров.
В книге Ражникова Кондрашин демонстрирует свое полуотрицательное отношение к Козловскому, не понимая, что Козловский – не только любимец оперных зажигалок, но и гениальный певец шаляпинского ранга. Это можно понять только представив себе Кондрашина не только музыкантом, но и советским идеологическим монстром–атеистом, который мог ненавидеть Козловского за его религиозность.
После ухода Кондрашина из Большого Евгений Светланов дирижировал его кондрашинской "Снегурочкой" и сделал запись этой оперы, которая является мировым шедевром благодаря участию в ней Козловского.
В 1952 г. Кондрашин записал с оркестром и певцами Большого театра великую русскую оперу "Руслан и Людмила". Она была издана на долгоиграющих пластинках. Партию Руслана в ней напел Иван Петров (Краузе). Похоже, что запись этой оперы для Кондрашина была тестом, в котором его дирижирование и музыкальность проверялись и не прошли по художественным оценкам. Ему не доверили дирижировать главными операми. А вскоре для усиления дирижерского состава пригласили Хайкина и Светланова.
Своим уходом из Большого театра и от дирижирования операми, в чем, на мой взгляд, проявилсось его истинное дарование, Кирилл Кондрашин обрек себя на бесславие и скорое забвение.
На знаменитом конкурсе Чайковского Кирилл Кондрашин аккомпанировал прекрасному американскому мальчику Вану Клиберну в коцертах для ф–но с орк. Чайковского и Рахманинова. И мальчик получил первую премию.
После этого последовали их совместные концерты в Ленинграде и в других городах СССР и многих стран. И сделаны были записи этих концертов.
Понятно, что при подобных обстоятельствах, никакой дирижер не устоял бы от желания погреться в лучах чужой славы. Не удержался и Кондрашин, сделав записи с желторотым победителем конкурса.
А каков результат? Клиберн, по молодости, достоин был прощения и всяческих поощрений. Но ведь Кондрашин этими поверхностными записями понизил свой уровень выдающегося дирижера, показав себя слабым интерпретатором великой музыки, по сравнению с эталонами ее исполнения самим Сергеем Рахманиновым, Владимиром Горовицем (3й концерт Рахманонова для ф–но с орк.) или Эмилем Гилельсом (1й концерт Чайковского для ф–но с орк).
Затем, в 1963 году, Кондрашин решил проявить свою стойкость в плане политическом, решив противостоять намерению властей запретить первое исполнение 13й симфонии Шостаковича. Его деятельность многим тогда представлялась исключительно благородной. Стоила ли сама музыка подобной борьбы? "Подвиг" его теперь можно оценивать по разному: ведь вскоре после премьеры и композитор, и поэт, и дирижер подчинились требованиям уголовного советского музыкального руководства, полностью извратив текст и политический смысл первой части симфонии. Но тогда его здоровью и его текущей музыкальной деятельности вряд ли это принесло пользу.
Кондрашин оставил после себя очень много записей, сделанных им как в СССР, так и за рубежом. Но серьезные любители записей симфонической музыки вряд ли среди них для себя найдут что–либо интересное. Берусь утверждать, что нет таких записей п/у Кондрашина. каких было бы нельзя найти в исполнении других дирижеров, не менее выдающихся. Поэтому записями Кирилла Кондрашина могут интересоваться либо его родственники, либо изощренные поклонники его таланта, либо случайные любители. А таких немного.
После ухода из Большого театра для него это уже была "другая жизнь", а жизнь после 1978 года в Голландии была лишь прелюдией к смерти. Не нужна ему была Голландия и не нужен ему был Концертгебау. Но он так поступил потому, что всегда себя переоценивал. И как музыканта. И, наверное, как человека.
У Кондрашина довольно большое количество записей, которые в основном были им сделаны во время зарубежных поездок. А заработки за рубежом давались ему легко, благодаря участию в его концертах знаменитых солистов, и потому как дирижирование для него, надо полагать, тяжелой работой не было.
Интересно, что среди сделанных Кондрашиным записей очень мало фундаментальных сочинений великих композиторов: симфоний. Нет симфоний Брукнера, Моцарта, Гайдна. Одна симфония Малера (Первая), одна – Бетховена (Третья), одна Чайковского (Шестая), две– Брамса (Первая и Вторая).
Наличие в списке всех (кроме 2й и 3й) симфоний Шостаковича и многочисленных записей концертов с солистами–инструменталистами вкупе с его бедным репертуаром, относящимся к области великой музыки, свидетельствует лишь о том, что великим симфоническим дирижером стать ему не удалось.
Кирилл Кондрашин – это типичный советский дирижер, впитавший в себя коммунистические догмы, что безусловно повлияло на интерпретации им музыкальных произведений. Так, в значительной степени посвятив себя дирижированию советскими довольно примитивными симфониями Шостаковича, а затем переключаясь на дирижирование сложными сочинениями других композиторов, в отличие от Шостаковича сочинивших настоящую музыку, его творческий потенциал оказывался в значительной степени ослабленным, и в эти сложные сочинения автоматически инкрустировалась советчина.
Это особенно становится понятным при ознакомлении с блестящей характеристикой сочинений Шостаковича приведенных в книге О.Гладковой "Галина Уствольская", СПБ 1999, на стр 50:
"Шостакович создал обширный репертуар, являющийся настоящим бальзамом на душу дирижеров и оркестрантов, не имеющих ни времени, ни желания репетировать. Судите сами: ритмические трудности равны почти нулю, интонационные проблемы более чем скромные, ансамбль несложный, да и психологически с этой музыкой нет никаких больших проблем: она состоит из хорошо знакомых компонентов, за немногими исключениями. И состав оркестра традиционный донельзя. И музыка занимательная да темпераментная: можно эффеkтно показать себя, не очень при этом надрываясь. Сделана она хорошо, но вопрос о том, что она такое?"
Что она такое? На мой взгляд, все сочинения Шостаковича можно отнести к сделанным исключительно механическим способом, поскольку композитор был атеистом и, очевидно, не относился к композиторам, считавшим, что создание настоящей музыки является божественным актом. А к тому же он также, находясь в плену коммунистических догм, был послушным исполнителем требований уголовной власти.
Шостакович был стопроцентно советским, а не русским композитором, как его часто ошибочно называют. Его сочинения и, в первую очередь, симфонии, как это следует из примера творческой биографии Кирилла Кондрашина, были типично советской помехой для правильного развития дирижерского искусства. В отличие от Кондрашина, дирижеру Евгению Мравинскому, полубездарному музыканту, занявшему вопреки всем выработанным музыкантами критериям и здравому смыслу, высочайшее положение в совдепии, стране абсурда, симфонии Шостаковича лишь обеспечили карьерный успех, избавив его от недосягаемых для него трудностей дирижирования операми.
Позволю себе привести один исторический пример исполнения и записи великого музыкального произведения, никак не связанный с деятельностью дирижера Кондрашина, но свидетельствующий о пагубном влиянии советчины на музыкальное иполнительство.
В 1967 году в Японии был конкурс на лучшее исполнение оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй". По политическим мотивам первую премию присудили советской певице Биешу. П/у дирижера Эрмлера опера была записана и издана на долгоиграющих пластинках с Биешу и Атлантовым, напевшими партии Баттерфляй и Пинкертона музыкально и вокально безграмотно и на языке, который назвать итальянским могут лишь те, которые понятия не имеют об опере вообще. Эту запись по мировым стандартам следует расценивать как позорную. Она может служит примером советской халтуры, одобренной невежественными властями. Поклонники опер Джакомо Пуччини найдут в этом исполнении надругательство над великой оперой.
Заканчивая свой очерк о великом русском дирижере Николае Голованове и советском дириюере Кирилле Кондрашине, мне хотелось бы посоветовать не только всем молодым дирижерам, но и всем талантливым молодым музыкантам, по возможности, после взросления избегать коммунистически идеологизированных и примитивных сочинений композиторов советской эпохи и, в первую очередь, сочинений Шостаковича, ослабляющих творческий потенциал музыкантов, и которые, как это следует из примера трагического жизненного пути исключительно талантливого музыканта Кондрашина, порой являются одной из главных причин творческого поражения и неожиданного ухода из жизни.
Сравнивая жизненные и творческие пути дирижеров Голованова и Кондрашина, я старался показать, что первый отождествлял собой противостояние советчине, а второй был порождением советчины. Насколько мне это удалось, предоставляю судить любителям музыки и опер.
Декабрь 2009 года.
ГОЛОВАНОВ Николай Семёнович , российский дирижёр, хормейстер, народный артист СССР (1948). В 1909 году окончил московское Синодальное училище церковного пения со званием регента, в 1914 - Московскую консерваторию, (классы композиции М. М. Ипполитова-Иванова и С. Н. Василенко). Дебютировал как хоровой дирижёр в 1912 году (с Синодальным хором, во время гастролей по Германии), как оперный дирижёр - в 1915 («Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, Большой театр, Москва). В 1915-53 (с перерывами) работал в Большом театре (в 1928 в связи со сфабрикованным делом о «головановщине» уволен, в 1930 восстановлен, в 1936 снова уволен; в 1948-53 главный дирижёр театра). Дирижировал многими операми и балетами русских и зарубежных композиторов, в последние годы работы в Большом театре осуществил постановки опер «Борис Годунов» (аудиозапись 1948) и «Хованщина» М. П. Мусоргского, «Садко» Римского-Корсакова (аудиозапись 1949), ставшие триумфом русского оперного искусства. В 1919-48 (с перерывами) работал в Оперной студии, организованной К. С. Станиславским при Большом театре (с 1928 Оперный театр имени К. С. Станиславского, с 1935 Оперно-драматическая студия; музыкальный руководитель с 1938).
На протяжении всей жизни вёл активную концертную деятельность. В 1920-1922 годах организовал около 60 концертов солистов Большого театра, в 1922 вместе с женой А. В. Неждановой совершил (в качестве аккомпаниатора) турне по Прибалтике, Германии, Чехословакии и Польше, в 1921-22 участвовал в качестве дирижёра в выступлениях танцовщицы А. Дункан в Москве. В 1924 при его участии состоялась первая в СССР трансляция радиоконцерта, в 1929 организован оперный Радиотеатр. С 1930 года главный дирижёр Радиоцентра, с 1937 главный дирижёр и художественный руководитель музыкального сектора Всесоюзного радиокомитета, с 1946 художественный руководитель Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио; в 1937-49 поставил ряд радиоопер, дирижировал кантатами «Иоанн Дамаскин» С. И. Танеева (аудиозапись 1947), «Весна» С. В. Рахманинова, «Из Гомера» Н. А. Римского-Корсакова. В 1936-38 годах художественный руководитель Симфонического оркестра Центрального Дома художественной самодеятельности Московского областного совета профсоюзов. Выступал с Государственным оркестром народных инструментов СССР (1936-47) и Государственным духовым оркестром СССР (1937-1940), в 1939-40 был художественным руководителем в обоих коллективах. В 1944-48 музыкальный руководитель Ансамбля песни и пляски ВЦСПС.
В 1925-29 и 1943-44 профессор оперного класса Московской консерватории, в 1927-43 выступал с оркестром Московской консерватории (был его создателем).
Государственная премия СССР (1946, 1949, 1950, 1951). Награждён орденом Ленина.
Соч.: Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников. М., 1982.
Лит.: Прибегина Г. А. Н. С. Голованов. М.,1990.
Весной и летом 2010 года в Москве произошло два примечательных события: в апреле в рамках Пасхального фестиваля в Рахманиновском зале был устроен хоровой концерт, состоявший исключительно из духовных произведений Николая Голованова, а в конце июня в Музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки открылась выставка «Образы России», изобразительный ряд которой составили главным образом живописные полотна из собрания этого композитора. Если прибавить, что в последние годы в концертных залах неоднократно звучала его симфоническая и камерная музыка, что диски с его оперными и симфоническими записями ныне выходят под самыми разнообразными «ярлыками», то можно, кажется, говорить о «воскрешении Голованова» — как дирижера, как композитора, как личности. В таком масштабе подобные явления происходят редко — видно, есть в фигуре ушедшего более полувека назад Николая Семеновича Голованова нечто, необходимое людям сегодня.
Биография его внешне несложна и как будто бы являет собой образец успешного пути мальчика из «низов» к вершинам славы. Родившийся в 1891 году в семье выходцев из крестьянcкого сословия, он в возрасте девяти лет был принят в Московское Cинодальное училище церковного пения. Благодаря прекрасному мальчишескому дисканту и замечательной музыкальности Коля Голованов сразу же вошел в трио солистов-«исполатчиков» (мальчиков, которые во время архиерейских служений исполняют песнопения на греческом языке). А благодаря исключительной работоспособности и сильному характеру сразу же выдвинулся в первые ряды учеников и на последних курсах училища, в возрасте 17-18 лет, уже регентовал хором Марфо-Мариинской обители, а в 1910 году, то есть 19-летним, стал педагогом Синодального училища и помощником регента Синодального хора за службами в Успенском соборе Московского Кремля. В 1911 году в юбилейном (посвященном 25-летию реформированного Синодального училища) концерте Синодального хора прозвучали два песнопения Голованова — эксапостиларии «Плотию уснув» и «Апостоли от конец света». В 1913 году Голованов заменил знаменитого регента Н.М. Данилина на концертах Синодального хора в Берлине; в 1918-м в нотоиздательстве Юргенсона вышло четыре опуса духовно-музыкальных сочинений Голованова для мужского и смешанного хора (в общей сложности — 23 номера).
Не менее стремительно развивалась и «светская» карьера музыканта: в 1914 году он с отличием окончил Московскую консерваторию как композитор, с 1915-го начал работать в Большом театре как дирижер; много выступал как пианист-аккомпаниатор со своей супругой — знаменитой певицей Антониной Неждановой (кстати, Антонина Васильевна была единственной женщиной, принимавшей иногда участие в духовных концертах Синодального хора; для нее, в частности, написано соло в столь часто исполняемом и сегодня песнопении Павла Чеснокова «Ангел вопияше»). В дальнейшем, после 1917 года, Голованов, наряду с работой в Большом театре и Московской консерватории, был музыкальным руководителем Оперной студии К.С. Станиславского, одним из создателей и руководителем Симфонического оркестра Всесоюзного Радиокомитета и оперного Радиотеатра. Он был народным артистом СССР, лауреатом нескольких государственных (тогда — сталинских) премий.
Однако не все складывалось в биографии талантливого музыканта так гладко, как выглядит в энциклопедических статьях. Уже в ранней молодости Николай оказался столь строптив и самостоятелен, что, являясь лучшим учеником Синодального училища своего выпуска, он все же не был занесен на почетную «Золотую доску». Как сказали бы сейчас, из-за неудовлетворительной оценки за поведение (что не помешало ему, как мы видели, сразу по окончании училища стать регентом Синодального хора). Из Большого театра, уже при советской власти, Голованова увольняли три раза: в конце 20-х годов, в конце 30-х и в 1953-м. В интернете мне недавно попался текст, озаглавленный «Голованов — любимый дирижер Сталина». Это - неправда, Николай Семенович не был любимым дирижером вождя, который пристально наблюдал за ситуацией в «придворном» театре. Жалобы на Голованова писали как власти, так и коллеги: в отношении к делу он был бескомпромиссен и часто «не взирал на лица». Николай Семенович и скончался, будучи отставленным от Большого.
Убежденный патриот и отнюдь не диссидент, Голованов не афишировал, но и не скрывал своих взглядов, в том числе религиозных. Он помогал материально московскому духовенству, собирал иконопись и религиозную живопись (в том числе из закрываемых и разрушаемых храмов); в его доме поэт Николай Клюев читал «запрещенную» поэму «Погорельщина» (за что вскоре поплатился пожизненной ссылкой в дальние края, куда замечательная русская певица и приятельница Голованова, солистка Большого театра Надежда Обухова посылала ему материальную помощь от московских артистов). Когда после печально знаменитого Постановления 1948 года («Об опере В.И. Мурадели “Великая дружба”») в очень тяжелом положении оказался великий Сергей Прокофьев — его музыку перестали исполнять, прекратились государственные заказы,— Голованов организовал в Большом театре оркестровый показ фрагментов нового балета Прокофьева «Каменный цветок» и пригласил туда Сергея Сергеевича; после исполнения дирижер и оркестр устроили Прокофьеву грандиозную овацию. Кстати, у Голованова, с молодости любившего и исполнявшего прокофьевскую музыку, есть примечательное биографическое совпадение с композитором: они родились в один год — в 1891-м — и умерли тоже в один год — в 1953-м. Прокофьев в марте, Голованов в августе, на Успение. (И теперь каждый год насельники московского Подворья Троице-Сергиевой Лавры в этот праздничный день служат панихиду на могиле Николая Семеновича на Новодевичьем кладбище.)
Всегда считалось, что самое важное в наследии Голованова — это сделанные им многочисленные записи русской классики, оперной и симфонической, и нередко в наше время его именуют «великим русским дирижером». Действительно, есть такой репертуар, в котором Голованов вряд ли до сих пор имеет себе равных: например, оперы Римского-Корсакова, симфонические произведения Скрябина. Но вот сравнительно недавно одна немецкая фирма выпустила диск с головановскими записями симфонических фрагментов из опер Вагнера. С трепетом приступая к его прослушиванию (ведь столько лет прошло, так изменились вкусы!), автор этих строк быстро убедилась, что и здесь время оказалось бессильно. Да, Голованов — великий дирижер. Вместе с тем, в последние годы стали все более привлекать внимание другие стороны деятельности музыканта, его облик в целом.
Через полтора десятилетия после кончины Голованова в его московской квартире в доме Большого театра в Брюсовом переулке был устроен мемориальный музей. Совершенно неповторимой оставалась атмосфера этой квартиры — не слишком большой, но все же просторной, до мелочей (дверные ручки, лепные украшения потолка и стен) оформленной самим Головановым и до краев заполненной живописью, скульптурой, книгами, нотами. Сюда приходили музыканты-дирижеры и здесь же стали собираться в определенные дни жившие в Москве последние «синодалы», то есть сотрудники Синодального училища и певчие Синодального хора: все они свято чтили память своих учителей и товарищей. Голованов сам собирал все, что относилось к Синодальному училищу: фотографии, литографированные ноты Синодального хора, программы его выступлений, рукописи. В результате образовался богатый архив, из которого уже в наше время извлекаются на свет Божий неповторимые ценности. Например, именно в доме Голованова хранилась (неведомыми путями попавшая туда) полная рукопись ныне опубликованных интереснейших воспоминаний директора Синодального училища Степана Васильевича Смоленского. Когда в наши дни издаются духовные сочинения композиторов Нового направления, исследователи обязательно просматривают литографии Синодального хора, ведь в них нередко запечатлены разные подробности, отражающие манеру, в которой исполнял эти сочинения знаменитый хор. В собрании Голованова есть и очень ценные, часто иллюстрированные («лицевые»), церковные книги.
 Но особенно любил Николай Семенович живопись, преимущественно (хотя не обязательно) русских художников: в его коллекции представлены и Поленов, и Нестеров, и братья Васнецовы, и Левитан, и Коровин, и Юон, и Малявин, и Малютин, и Верещагин, и Айвазовский, и Головин, и Александр Бенуа, и многие другие. Список авторов собранных им работ занял бы слишком много места, но даже из краткого перечня ясно, что Голованов предпочитал работы своих современников. Конечно, дирижируя долгие годы в Большом, он встречался с талантливыми художниками, которые сотрудничали с театром. Был знаком Николай Семенович также с М.В. Нестеровым: музыкант регентовал хором Марфо-Мариинской обители в те же годы, когда художник расписывал ее храм. Голованов покупал работы у В.М. Васнецова, очень удачный портрет дирижера написал С.В. Малютин.
Но особенно любил Николай Семенович живопись, преимущественно (хотя не обязательно) русских художников: в его коллекции представлены и Поленов, и Нестеров, и братья Васнецовы, и Левитан, и Коровин, и Юон, и Малявин, и Малютин, и Верещагин, и Айвазовский, и Головин, и Александр Бенуа, и многие другие. Список авторов собранных им работ занял бы слишком много места, но даже из краткого перечня ясно, что Голованов предпочитал работы своих современников. Конечно, дирижируя долгие годы в Большом, он встречался с талантливыми художниками, которые сотрудничали с театром. Был знаком Николай Семенович также с М.В. Нестеровым: музыкант регентовал хором Марфо-Мариинской обители в те же годы, когда художник расписывал ее храм. Голованов покупал работы у В.М. Васнецова, очень удачный портрет дирижера написал С.В. Малютин.
Коллекцию Голованов начал собирать с середины 1910-х годов, а к концу жизни музыканта в ней, судя по рукописным каталогам самого Николая Семеновича, насчитывалось до тысячи работ. Весомую часть коллекции (примерно 120 единиц) составляла иконопись — начиная с XV века. Известно, что в московской квартире все иконы были сосредоточены в спальне, где их могли видеть только самые близкие люди (которые и называли эту спальню «молельной»). Там же хранились иные церковные реликвии (например, Царские врата от разоренного иконостаса), а также предметы церковной утвари.
Конечно, вся коллекция не могла поместиться в квартире, и многое (в том числе иконы) находилось на даче Голованова и Неждановой на Николиной горе под Москвой. После кончины дирижера в квартире жила его сестра, которая по необходимости продала сравнительно небольшое количество живописных работ в антикварный магазин. Огромный же урон коллекции нанесло ограбление дачи в 1960-е годы, когда оттуда исчезли именно картины (а по-видимому, и иконы). В 1969 году, при устройстве музея, самая ценная часть остававшейся коллекции была отправлена в Третьяковскую галерею — 60 икон и 19 живописных работ, в том числе великолепные большие полотна Левитана; затем так называемый Всесоюзный производственно-художественный комбинат забрал еще 107 живописных работ и «распределил» их по разным художественным музеям, училищам и школам. Когда в 2007 году издательство «Белый город» решило в серии «Сокровища русского искусства» издать альбом, посвященный коллекции Голованова, сотрудники Музея имени Глинки (куда входит как филиал Мемориальная квартира Голованова) А.А. Наумов и О.И. Захарова составили каталог всех известных ныне работ из коллекции Голованова. При этом оказалось, что теперешнее местонахождение целого ряда работ, распределенных комбинатом и других, неизвестно, что некоторые из них попали в музеи Молдавии и Украины и проч. Сейчас в мемориальной квартире числится 236 произведений живописи, имеется также очень хорошая скульптура.
Квартира в Брюсовом переулке последнее десятилетие находилась в состоянии капитального ремонта, да и раньше круг ее посетителей был очень ограничен, таким образом получилось, что до выхода альбома даже профессионалы мало что знали про Голованова-коллекционера и про его собрание. Выставка «Образы России» — по существу первый развернутый показ сокровищ квартиры в Брюсовом. (Правда, несколькими годами ранее в музее было представлено два отреставрированных ценнейших полотна из головановской коллекции: «Мавзолей Тадж-Махал» В.В. Верещагина и «Венеция» В.Д. Поленова.)
В нынешнюю экспозицию вошли высокие образцы русского религиозного искусства конца XIX и начала ХХ столетия. Прежде всего, принадлежащий кисти Михаила Васильевича Нестерова «Ангел печали» (эскиз для мозаики над криптой церкви Петра Митрополита в Волынской губернии), «Святая Варвара» (эскиз для росписи Владимирского собора в Киеве), его же полотно, озаглавленное строкой из стихотворения А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны». На этой картине Нестеров по просьбе Голованова повторил мотивы своих известнейших произведений: «Пустынник» и «Великий постриг».
Историческая русская тема представлена, например, отличным полотном П.И. Петровичева «Интерьер церкви Спаса на Сенях в Ростове Великом», а также работами «Иван Грозный в Александровской слободе» и «Царевич Петр Алексеевич и сокольничий» известного мастера исторической живописи Клавдия Лебедева, «Стрелец на башне Кремля в лунную ночь» Н.С. Матвеева.
Несомненной колористической доминантой выставки стало большое праздничное полотно Константина Юона «В Сергиевом Посаде» (работа 1911 года, авторский вариант картины на ту же тему, находящейся в Третьяковской галерее). По словам самого живописца, здесь соединяются «декоративная и красноречивая красочность форм ушедших веков» с «живой жизнью в живом свете». Вокруг на стенах — пейзажные холсты выдающихся мастеров из созвездия Союза русских художников: С.В. Малютина, С.Ю. Жуковского, К.А. Коровина, С.А. Виноградова.
А еще — великолепный портрет прославленной русской балерины Ольги Спесивцевой работы С.А. Сорина, лирическое повествование о России в этюдах А.С. Степанова, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, образ непревзойденного творца лирического музыкального пейзажа С.В. Рахманинова (портрет работы Л.О. Пастернака), народные образы в картинах А.Е. Архипова (холст «Молодуха» и этюд к картине «В весенний праздник»), Л.В. Попова (этюд «На богомолье»), В.Д. Орловского (этюд «Приближение грозы») и В.В. Верещагина («Троицын день»)…
Думая о достойном «эскорте» коллекции Голованова в стенах именно музыкального музея, авторы выставки решили сопроводить живопись особым документальным рядом. Вместе с картинами экспонировались древнерусские и более поздние певческие книги, ценнейшие автографы духовно-музыкальных произведений из коллекции музея (например, рукописи «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова и «Херувимской песни» П.И. Чайковского), редкие фотографии знаменитых музыкантов и прославленных русских хоров. «Светская» линия русского искусства была представлена автографами и фотографиями композиторов-классиков, художественно оформленными концертными программами конца XIX — начала XX века, роскошными изданиями оперных и симфонических произведений русских классиков. Украшением экспозиции стал стилизованный под старину костюм певчего Синодального хора, выполненный в 1908 году по рисунку В.М. Васнецова.
Все вместе взятое — действительно «образы России», поэма о России, такой, какой ее знал и любил Николай Семенович Голованов.
На выставке «Образы России» постоянно звучали духовные произведения Голованова в записи с концерта на Пасхальном фестивале 2010 года, причем это были не произведения молодости композитора, изданные в 1918 году, а те хоры, которые он писал после 1918-го — вплоть до последних лет своей жизни. Писал, разумеется, «для себя», «в стол», а начиная с середины 1920-х годов — без всякой надежды услышать. «В стол» в данном случае можно понимать буквально, так как именно в головановском столе в квартире в Брюсовом и были обнаружены автографы четырех десятков хоров, объединенных в четыре опуса (36-39): Песнопения Рождества Христова и Литургии, Песнопения Великого поста, Страстной седмицы и Пасхи, «Из юношеских тетрадей», сюита «Всех скорбящих Радосте» (6 номеров) и другие песнопения позднего периода.
 Опубликованные в 2004 году издательством «Живоносный Источник», эти произведения еще несколько лет ждали своего часа. Хотя отдельные номера иногда пели разные хоры, только развернутое монографическое исполнение, в которое вошли песнопения из всех поздних опусов, смогло дать истинное понятие о Голованове как современном духовном композиторе. Большинство его сочинений технически трудны: внутренним слухом композитор всегда ориентировался на те мощные хоры, с которыми работал, то есть на Синодальный хор, на хор Большого театра. На этот раз для головановского концерта был собран большой коллектив под управлением известного хормейстера Алексея Пузакова (регента храма «Всех скорбящих Радосте» на Ордынке и Николы в Толмачах при Третьяковской галерее). Хормейстер получил благословение Святейшего Патриарха на возрождение исторического имени Синодального хора, и под этим именем руководимый им хор выступил в историческом зале Синодального училища — теперь Рахманиновском зале Московской консерватории. Право на такое имя придется еще долго «зарабатывать», но сложная программа была спета очень достойно.
Опубликованные в 2004 году издательством «Живоносный Источник», эти произведения еще несколько лет ждали своего часа. Хотя отдельные номера иногда пели разные хоры, только развернутое монографическое исполнение, в которое вошли песнопения из всех поздних опусов, смогло дать истинное понятие о Голованове как современном духовном композиторе. Большинство его сочинений технически трудны: внутренним слухом композитор всегда ориентировался на те мощные хоры, с которыми работал, то есть на Синодальный хор, на хор Большого театра. На этот раз для головановского концерта был собран большой коллектив под управлением известного хормейстера Алексея Пузакова (регента храма «Всех скорбящих Радосте» на Ордынке и Николы в Толмачах при Третьяковской галерее). Хормейстер получил благословение Святейшего Патриарха на возрождение исторического имени Синодального хора, и под этим именем руководимый им хор выступил в историческом зале Синодального училища — теперь Рахманиновском зале Московской консерватории. Право на такое имя придется еще долго «зарабатывать», но сложная программа была спета очень достойно.
Что побуждало Николая Семеновича к сочинению духовных произведений?
Как пишет очень осведомленный мемуарист, в Москве всегда прекрасно знали, что Голованов и Нежданова — люди церковные. Близкие к Голованову люди искусства знали также, что духовником артистов был протоиерей Николай Павлович Бажанов, многолетний настоятель храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. И хоронили Голованова по-церковному, хоть и «потайно».
«Когда из дверей Большого театра выносили гроб с телом Николая Семеновича, перед гробом шел отец Николай Бажанов, правда, “без облачения”. Немногим было известно, что под габардиновым плащом священника были скрыты полукафтанье, поручи, епитрахиль. Отец Николай сел в машину на переднее место рядом с водителем, и она двинулась впереди автобуса, на котором везли гроб с телом Голованова. Таким образом, похоронную процессию на Новодевичье кладбище возглавлял, как и положено, православный священник. А когда гроб был опущен в могилу и прозвучали напутственные слова от партийной организации ГАБТа, местного комитета и прочей общественности, отец Николай, конечно же, совершил заупокойную литию по замечательному музыканту. Мы, верующие артисты (а таких было немало), про себя вторили отцу Николаю…»
Судя по датам на автографах, новые хоры нередко появлялись в церковные праздники, особенно же много песнопений было создано в первый период Отечественной войны: Голованов и Нежданова отказались от эвакуации и оставались в Москве, возобновив, как только стало возможно, концертную деятельность, прежде всего на радио. Многие сочинения имеют примечательные посвящения живым и уже ушедшим — С.В. Смоленскому, П.Г. Чеснокову, А.Д. Кастальскому, Н.М. Данилину, знаменитому басу и церковному певцу В.Р. Петрову. Быть может, прекраснейшее в духовном наследии Голованова песнопение — «Свете тихий» из опуса 39 — было написано за двадцать дней до кончины С.В. Рахманинова (1943) и потом посвящено его «светлой памяти».
Особое значение имеет посвящение «святителю Трифону» хронологически последнего духовного произведения Голованова — проникновенной молитвы к святому мученику Трифону на текст из акафиста (1952). Речь идет об известном (и тогда уже почившем) иерархе — митрополите Трифоне (Туркестанове), которого Голованов знал со времен своего ученичества и которому помогал в самые трудные годы. Среди головановских альбомов, в которые Николай Семенович вклеивал важные для него документы — письма, фотографии, рецензии, не так давно нашлись фотографии владыки Трифона и его стихи, посланные Николаю Семеновичу в 1930 году. Это был период, когда музыкант был вынужден уйти из консерватории и Большого театра, когда шатким стало его положение на радио и в филармонии. Конечно, владыке Трифону, любимому духовнику московской артистической братии, все это было известно, и стихи его имели целью поддержать того, кого он помнил мальчиком-«исполатчиком» в кремлевском Успенском соборе:
…Но вот — три отрока в блистании одежды
Воспели песнь любви, и веры, и надежды.
От них один отличен был во всем —
Казалось, Господа он зрел душою чистой,
И чудилось, молитвы те неслись
К престолу Божьему, на небо, в высь…
И в нем я не ошибся. Проходили годы…
В работе и трудах, терпя порой невзгоды,
Блестящим он талантом возрастал
И музыкой Европу восхищал.
Хотя пред гением его склонялись главы,
Не возгордился духом. В блеске шумной славы
Он сохранил всю веру детских лет,
И, не считаясь с тем, что скажет свет,
Во всякой смене убегающих мгновений
Все помнит он напевы древних песнопений
И ранней юности своих друзей,
Стараясь снять с них бремя их скорбей.
Давно когда-то с ним сливался я в молитве,
И вот теперь в житейской тяжкой битве
Он, помня дни родного далека,
Не позабыл больного старика.
И с благодарностью за помощь и участье
Молю я Господа, да даст ему Он счастье,
Чтобы не пал в борьбе со злой судьбой,
Своею верой огражден святой.
В четыре опуса поздних духовных сочинений Голованова вошли работы разных лет. Опус 38 озаглавлен «Из юношеских тетрадей»: его составляют произведения, первые записи которых относятся еще к периоду Синодального училища; затем, в начале 1940-х, они были существенно переделаны рукой опытного музыканта. В опусе 36, «Песнопениях Рождества и Литургии», хронологический разбег — от прекрасного «Тебе поем» с соло сопрано 1918 года (песнопение успело прозвучать в концерте с участием хора И.И. Юхова и А.В. Неждановой в апреле 1918-го) до рождественского кондака «Дева днесь», написанного в память об А.Д. Кастальском, скончавшемся в декабре 1926 года, и далее до рождественского тропаря и ирмоса рождественского канона, созданных в начале 1941-го. Песнопения опусов 37 и 39 относятся преимущественно к 1940-м годам, и, может быть, именно они в наибольшей степени раскрывают головановское слышание церковно-певческой русской традиции. В опусе 39, последнем, особенно выделены первые шесть хоров — богородичные песнопения; они имеют авторское название: сюита «Всех скорбящих Радосте», а первые три хора — много говорящую дату: скорбные дни ноября 1941 года. Еще в этот опус входят два песнопения небесному покровителю Голованова — святителю Николаю — декабрь 1941 года (и именно 19 декабря, Николин день) и тропарь преподобному Серафиму Саровскому, сочиненный тогда же. Кроме упомянутых «Свете тихий» памяти Рахманинова и «Молитвы святому мученику Трифону», в опусе имеются два хора, написанные по конкретным поводам (и, разумеется, исполненные разве что дома за роялем): Великое многолетие, посвященное 40-летию артистической деятельности А.В. Неждановой (май 1943 года), и седален «Покой, Спасе наш» памяти умершего друга (1944).
 Пересказывать словами неизвестную читателю музыку — неблагодарное занятие. Нет ясного ответа и на вопрос, в какой мере «написанное в стол» может войти в современный церковный обиход. Наверное, может отдельными песнопениями, и, конечно, только там, где есть певцы, способные передать головановскую хоровую фактуру. В то же время ни малейших сомнений насчет церковности творчество Голованова не вызывает: в каждый момент композитор твердо слышит и претворяет русскую певческую традицию, слышит богослужебный смысл слова и песнопения в целом. Стилистическое преимущество имеет родное Голованову Новое направление, «школа Синодального училища», притом во всем многообразии вариантов: и Кастальского, и Рахманинова, и Чеснокова, и Гречанинова. Есть песнопения, которые, не являясь переложениями в точном смысле слова, словно «перепевают» на свой лад традиционные роспевы, но и всегда, в самых свободных композициях, принцип роспева лежит в основе всего. Однако поверх школы, поверх воспоминаний о былом в этой музыке звучит голос художника другого времени, художника с очень глубоким духовным и собственно художественным опытом. Отсюда — дивные длинные (и такие трудные для исполнения) мелодические линии, словно «бесконечное дыхание», отсюда — богатое и сложное (не выдуманное, естественное) гармоническое письмо. Церковное творчество Голованова — это свой путь, не «ностальгирующий» (хотя печаль об ушедшем тоже слышна), не «стилизующий» (этого совсем нет). Для него — ничто не ушло, все живо.
Пересказывать словами неизвестную читателю музыку — неблагодарное занятие. Нет ясного ответа и на вопрос, в какой мере «написанное в стол» может войти в современный церковный обиход. Наверное, может отдельными песнопениями, и, конечно, только там, где есть певцы, способные передать головановскую хоровую фактуру. В то же время ни малейших сомнений насчет церковности творчество Голованова не вызывает: в каждый момент композитор твердо слышит и претворяет русскую певческую традицию, слышит богослужебный смысл слова и песнопения в целом. Стилистическое преимущество имеет родное Голованову Новое направление, «школа Синодального училища», притом во всем многообразии вариантов: и Кастальского, и Рахманинова, и Чеснокова, и Гречанинова. Есть песнопения, которые, не являясь переложениями в точном смысле слова, словно «перепевают» на свой лад традиционные роспевы, но и всегда, в самых свободных композициях, принцип роспева лежит в основе всего. Однако поверх школы, поверх воспоминаний о былом в этой музыке звучит голос художника другого времени, художника с очень глубоким духовным и собственно художественным опытом. Отсюда — дивные длинные (и такие трудные для исполнения) мелодические линии, словно «бесконечное дыхание», отсюда — богатое и сложное (не выдуманное, естественное) гармоническое письмо. Церковное творчество Голованова — это свой путь, не «ностальгирующий» (хотя печаль об ушедшем тоже слышна), не «стилизующий» (этого совсем нет). Для него — ничто не ушло, все живо.
Когда слушаешь головановские песнопения подряд, в большом количестве (можно — начиная с первых, дореволюционных опусов), возникает предположение, что автор выстраивает некий собственный «певческий обиход». Дело даже не в том, что у Голованова есть циклы песнопений, объединенных темами церковного года или принадлежностью к той или иной службе (при желании можно выстроить из головановских опусов, вместе взятых, певческое решение Литургии и Всенощной). Дело, скорее, во внутреннем единстве всего им созданного, в возникновении своей системы певческой передачи слова и образа.
…Возвращение Голованова еще не завершено. Так, в разных изданиях Музея музыкальной культуры публиковались некоторые письма Николая Семеновича, фрагменты его дневниковых записей — весьма интересных и колоритных. Ныне идет подготовка к печати целого тома литературного наследия музыканта, куда войдут и дневники, и письма, и другие документы. Еще предстоит запись аудиодисков с церковно-музыкальным и светским наследием Голованова-композитора; предстоит реставрация и качественное переиздание многих его дирижерских работ. И тогда все чаще ныне применяемое к Голованову определение «великий» раскроет свой истинный смысл.
Марина Рахманова
Журнал «Православие и современность» № 17 (33)
Свенцицкий А. Невидимые нити. М., 2009. С. 26
Дирижёр (хоровой, оперный, симфонический), пианист-аккомпаниатор, композитор, педагог, общественный деятель.
Родился 9 января 1891 года в Москве. В 1900-09 годах учился в Синодальном училище церковного пения, по окончании которого стал регентом 1-го разряда. Среди педагогов — B. C. Орлов, А. Д. Кастальский, Н. М. Данилин. В 1912-18 годах преподавал в училище. В 1914 году окончил Московскую консерваторию с малой золотой медалью по классу композиции С. Н. Василенко (дипломная работа — опера-кантата «Принцесса Юрата»). Учился также у А. А. Ильинского, М. М. Ипполитова-Иванова. С 1909 года года выступал как хоровой дирижёр, в том числе, на гастролях за рубежом (с Синодальным хором). В 1910-18 годах — помощник регента Синодального хора. С 1915 года работал в Большом театре: в 1915-19 — помошник хормейстера, в 1919-28, 1930-36 — дирижёр, 1948-53— главный дирижёр. В1919-48 годах (с перерывами) — дирижёр в Оперном театре (студии) им. К. С. Станиславского. Как симфонический дирижёр выступал с оркестрами Большого театра, Московской консерватории, Московской филармонии (1920-е гг.). С 1930 года — главный дирижёр Радиоцентра, возглавлял оперный Радиотеатр; с 1937 — художественный руководитель и главный дирижёр БСО Всесоюзного радиокомитета. Одновременно выступал с Государственным оркестром народных инструментов СССР (1936-47), с Государственным духовым оркестром СССР (1937-40) и др. В обширном репертуаре Голованова-симфонического дирижёра центральное место занимала русская классика, а также произведения современных отечественных композиторов. Среди его исполнительских шедевров — произведения А. П. Бородина, М. И. Глинки, П. И Чайковского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. Н. Скрябина. Первый исполнитель в СССР произведений С. В. Рахманинова: «Три русские песни» (1932), Третья симфония (1943), «Симфонические танцы» (1943); Н. Я. Мясковского: Шестая (1924), Двадцатая (1940) симфонии; С. С. Прокофьева: опера «Любовь к трем апельсинам» (Большой театр, 1927), Пятый концерт для фортепиано с оркестром (1932), Четвертая симфония (1933), Сюита № 1 из балета «Ромео и Джульетта» (1936), «Здравица» (1939); А. И. Хачатуряна: Сюита из балета «Гаянэ» (1943); Т. Н. Хренникова: Вторая симфония (1943) и др. В 1916-43 концертировал как пианист-аккомпаниатор в ансамбле с A. B. Неждановой, И. С. Козловским, М. О. Рейзеном, М. П. Максаковой, Н. Д. Шпиллер.
Композиторское наследие Голованова включает 2 одноактные оперы, симфонию, 2 кантаты, произведения для хора (в том числе свыше 60 духовных сочинений, см.: Н. С. Голованов. Духовные произведения для хора а cappella. М., 2004), симфонического оркестра, для фортепиано (см.: Н.С. Голованов. Соната. Эстампы. М., 2005), для голоса и фортепиано (свыше 140 романсов), свыше 50 обработок песен разных народов. В 1925-29 и 1943-48 — профессор оркестрового и оперного классов Московской консерватории. Среди учеников ассистенты-стажеры Большого театра — Е. Акулов, Г. Зимин, А. Ковалёв, С. Сахаров; в Московской консерватории — Л. Гинзбург, Г. Рождественский, Б. Хайкин в БСО Всесоюзного радиокомитета — К. Иванов. В 1926 году силами студентов оперного класса и студенческого оркестра осуществил в Московской консерваторию первую после Октябрьской революции постановку —опера «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова.
Сталинские премии СССР (1946,1949,1950,1951, в том числе, за постановки опер «Борис Годунов», 1948; «Садко», 1949; «Хованщина», 1950). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1937), Ленина (1951); медалями: «За оборону Москвы» (1949), «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Его жена — A. B. Нежданова.
Литературные сочинения: Записная книжка ученика IV класса Московского Синодального училища церковного пения Н. Голованова 1903/04 уч. г. // Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 1. Синодальный хор и училище церковного пения. Воспоминания. Дневники. Письма. М., 1998; Этюд о Прокофьеве / Публ. О. Захаровой // Сергей Прокофьев. Воспоминания. Письма. Статьи. М., 2004.
Николай Семенович Голованов (1891–1953) - русский композитор, дирижер. Родился в Москве 9 (21) января 1891 в бедной мещанской семье. После окончания Синодального училища церковного пения в 1910 был назначен помощником регента Синодального хора (выступал в концертах, проводил зарубежные гастроли) и преподавателем Синодального училища. В 1914 получил композиторский диплом в Московской консерватории и в 1915 дебютировал как симфонический дирижер. В 1919–1928 и 1930–1936 дирижер, в 1948–1953 главный дирижер московского Большого театра. С 1919 работал в Оперной студии К.С.Станиславского (впоследствии Оперный театр имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко). С конца 1920-х годов вел активную деятельность на Всесоюзном радио, где возглавил оперный радиотеатр и являлся главным дирижером Большого симфонического оркестра (1937–1953). В 1925–1948 (с перерывом) профессор оркестрового и оперного классов Московской консерватории. Выступал как пианист, в 1916–1943 преимущественно в ансамбле со своей женой – певицей А.В.Неждановой. Автор опер "Принцесса Юрата", "Богатырский курган", симфонии, романсов, значительного числа духовных хоровых произведений.
Высшие достижения Голованова-дирижера связаны с русской музыкальной классикой, особенно оперной (записи на радио, постановки опер "Садко" Римского-Корсакова, "Бориса Годунова" и "Хованщины" Мусоргского в Большом театре), и с симфоническим творчеством Скрябина и Рахманинова. Голованов был также выдающимся интерпретатором современной ему музыки, первым исполнителем ряда сочинений Прокофьева, Шостаковича. Его дирижерская манера отмечена сильным волевым началом, яркостью контрастов, прекрасным чувством драматургии.
Голованов собрал ценную коллекцию произведений изобразительного искусства (преимущественно русских художников конца 19 – 20 вв.), книг и рукописей, которая хранится ныне в Музее-квартире Голованова в Москве (филиал Государственного музея музыкальной культуры имени М.И.Глинки; некоторые произведения коллекции – в Государственной Третьяковской галерее). Умер Голованов в Москве 28 августа 1953.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.belcanto.ru/
Души, сочетание в характере русского человека доброты и зла, праведности и греховности, непостижимость поведения простого человека с точки зрения разума были основными темами творчества писателя на протяжении всей жизни. Позднее, в 1870-1871 гг. Лесковым будет написан и издан еще один антинигилистический роман – "На ножах". Основная сюжетная линия романа – убийство нигилистом Гордановым и его...

А там балет... Находясь на сцене, я прямо-таки физически ощущала сильнейшую творческую энергию, которую излучали его руки. И это придавало свободу, уверенность, вдохновение". В 1965 году Евгений Светланов становится художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР. До этого времени оркестром, созданным в 1936 году, руководили Александр Гаук, Натан...
жизни. Поместив в 1860 г. несколько бойких статеек в «Современной медицине», «Экономич. указателе», «С. - Петербургских ведомостях», Л. бросает коммерческую деятельность, переселяется в Петербург (1861) и всецело отдается литературе. Ближайшими друзьями его были в то время два пламенных политических агитатора - герценовский «эмиссар» журналист Артур Бенни и умерший в Петропавловской крепости...
Всеми её людьми – и добрыми и недобрыми, с её многовековой культурой. И это тоже его позиция как писателя. Толкование сущности характера русского человека мы находим во многих произведениях Лескова. Самыми популярными рассказами Лескова являются «Левша» и «Очарованный странник», в них Лесков делает яркий акцент на характер и мировоззрение истинно русского человека. Рассказы о праведниках: «Левша...